"Сады Серебряного века". Фрагмент будущей книги
Глава 1. ОБРАЗ САДА В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА
1.2.3.8.Поэзия: "И сад тот — райская страна"
Высшая форма "сада души" — райский сад, каким его знает религиозное мировоззрение. Но символизм не мог следовать тем формам церковного искусства, который считал отжившими. Описание Рая "по Библии" в поэзии и прозе этого направления практически не встречается. "Протестантский прибранный рай", иронически упомянутый в стихах Гумилева, заменяется десятками самых разных образов, некоторые из которых больше напоминают преисподнюю. Ряд интересных и значительных произведений варьирует тему райского сада.
Стихотворение Эллиса "Божий сад", на первый взгляд, довольно традиционно. Отлетевшая душа любуется облачными растениями и небесными насекомыми.
Мне радостно дремать без грез,
мне плакать сладостно без слез...
Я потупляю робкий взгляд,-
передо мной Господний сад.
цветут цветы нежнее льна,
белее Божьего руна,
и сходят звезды здесь и там,
как пчелок рой, играть к цветам.
Вкруг нерушима тишина,
и сад тот - райская страна!
Здесь интересен мотив оживших звезд, столь ярко представленный в поэзии Бальмонта. Но впечатление белизны, тишины и благостности сменяется странной встречей.
И Странник тихий и простой,
весь благовестье и покой,
идет с улыбкой на устах,
и лунный серп в Его руках.
Ликование звезд заставляет предположить, что под облик странника символизирует Христа. Но лунный серп не в нимбе и не в небе, а у него в руках. Улыбающийся странник поднимает серп над головой — и слова героя похожи на предсмертное восклицание.
Все ближе... вот и подошел
и стал в жужжанье райских пчел,
и улыбнулся мне, и вдруг
возликовало все вокруг,
Он тихо белый серп вознес,
"в свой сад прими меня, Христос!.."
Двусмысленность образа переходит обычные рамки символистской условности. Вознесенный лунный серп — то ли знак посвящения, то ли предмет ритуального жертвоприношения. Автор на дает нам понять, какая из догадок правильнее. Белый мир облачного сада приобретает грозную загадочность.
У Эллиса, который в этот период вообще не отличался церковной религиозностью, есть мрачное стихотворение под названием "Museum anatomicum". Описание анатомического театра вдохновлено старинной гравюрой и выдержано в зловещих барочных тонах. Осматривая скелеты, держащие назидательные надписи, герой замечает группу, напоминающую о Грехопадении:
О если б в этот миг, конец вещая света,
Архангел надо мной нежданно вострубил,
Я б меньше трепетал в день судного ответа!
Казалось, надо мной глухой качнулся свод,
направо от меня два чахлые скелета
Жевали яблоко, кривя и скаля рот,
меж яблони ветвей, злорадно извиваясь,
висел проклятый змей, сгубивший смертный род [...]
Неожиданные ракурсы райской темы искали и находили многие из метров символизма. Брюсов в стихотворении "Гесперидовы сады" воспел плотские радости античного рая.
Где-то есть, за темной далью
Грозно зыблемой воды,
Берег вечного веселья,
Незнакомые с печалью
Гесперидовы сады. [...]
Девы, благостно нагие,
Опустив к земле глаза,
Встретят странника, как друга,
Уведут тебя в густые,
Светлоствольные леса.
Там, где клонит тиховейно
Ветви древние платан,
Заслоняя солнце юга, -
В голубых струях бассейна
Ты омоешь язвы ран.
Юный, сильный и веселый,
Ты вплетешься в хоровод,
Чтобы в песнях вековечных
Славить море, славить долы
И глубокий небосвод. [...]
Встанет сумрак. Из бокала
Брызнет нектар золотой.
В чьи-то жданные объятья,
И покорно и устало,
Ты поникнешь головой.
Особое место тема райского сада занимает у Бальмонта. Именно ему принадлежит крылатая строка "Я обещаю Вам сады // С неомраченными цветами". Но не все помнят, что стихотворение, из которого она взята, называется "Оттуда"; эпиграф из Корана ("Я обещаю вам сады...") поясняет это заглавие. Образ мусульманского рая нужен поэту как основа для собственного образа и напоминание о красоте иных, чем христианство, религий.
Я обещаю вам сады,
Где поселитесь вы навеки,
Где свежесть утренней звезды.
Где спят нешепчущие реки.
Я призываю вас в страну,
Где нет печали, ни заката,
Я посвящу вас в тишину,
Откуда к бурям нет возврата.
Пророк обещает показать своим верным высшие тайны и дает им в знак путеводную звезду. Неомраченные цветы — символ небесного сада.
Я покажу вам то, одно,
Что никогда вам не изменит,
Как камень, канувший на дно,
Верховных волн собой не вспенит.
Идите все на зов звезды,
Глядите, я горю пред вами.
Я обещаю вам сады
С неомраченными цветами.
Христианские образы Рая в поэзии Бальмонта также сильно преображаются. В стихотворении "Вершинный сон" поэт говорит, что если истолочь драгоценные камни, соответствующие камням Небесного Иерусалима, истолочь, что возникнет запах, напоминающий жасмин, ваниль и фиалку. Надышавшись им, во сне можно попасть в сам Небесный Иерусалим, который Бальмонт называет Вертоградом, то есть Садом.
Если жемчуг, сапфир, гиацинт, и рубин
С изумрудом смешать, превративши их в пыль,
Нежный дух ты услышишь, нежней, чем жасмин,
И красиво пьяней, чем ваниль.
В аромате таком есть фиалка весны,
И коль на ночь подышишь ты тем ароматом,
Ты войдешь в благовонно стозвонные сны,
Ты увидишь себя в Вертограде богатом,
В Вертограде двенадцати врат [...]
В "Веселом рое" Бальмонт использует народную сектантскую мистику — Сион-Гора, Сладим-Река, "живой цветок". Обитатели вертограда летают по его цветам как пчелы ("мы только капли в вечных чашах") и несут на себе мир.
[...] Живогласные трубы нам поют о живом цветке.
И румяные губы говорят о Сладим-Реке.
Воссияли зарницы, и до молний громов дошли,
Восплескалися птицы, и запели, поют вдали.
Уж вдали или близко, не узнать. Может тут, в крови.
И высоко и низко перелет обоймет. Лови.
В вертограде веселом перелетом цветок цветет.
И, подобные пчелам, мы рождаем по капле мед.
В вертограде цветущем мы с толпою летим вдвоем.
И на вихре поющем мы несомы - и мир несем.
Стихотворение "Дух святой" соединяет райский сад с прудами, в которые Дух выпускает уловленные им души. Голубые садовые пруды, в которые глядятся цветущие яблони, — причудливый, но запоминающийся образ "художественного Рая".
Дух Святой по синю Морю над водою ходит,
Невод шелковый по Морю Дух Святой заводит. [...]
В тонкой сети миг побывши, выйдите из Моря,
В сад предивный вы войдете, светом свету вторя.
В голубых прудах садовых, в хрусталях-озерах,
Поплывете, пробуждая по осоке шорох.
В хороводы ваши глянут яблони в расцвете.
В стихотворении "Вертоград" говорится о том, что вошедший в него будет скорбить о малости понесенной для этого жертвы. Пейзаж лаконичен — разноцветный виноград и "свежий сад".
Тот, кто вступит в Вертоград,
Кровью сердца купит сад,
Будет лишь о том жалеть,
Что за этот аромат
Мало он понес утрат,
Что терзаться был бы рад,
А была воздушна сеть,
Что за этот пышный сад,
Желтый, красный виноград,
Синий, черный виноград,
Что за этот свежий сад
Весь не может он сгореть,
Жить и вместе умереть
.
Подробнее "духовный сад" описан в одноименном стихотворении. Однако соединение в нем света и тьмы заставляет усомниться в том, что это изображение Рая.
Темный и светлый духовный наш Сад,
Солнце зашло, но не гаснет закат,
Красные вишни, златой виноград.
Ягодки словно цветы - барбарис,
В яблоках ясно румянцы зажглись,
Темный, как терем ночной, кипарис.
Нежно обнявшись с последним лучом,
Лилия дремлет и грезит. О чем?
Белая лилия, впитавшая золото последнего луча, становится символическим центром этого сада символов.
Уж не отпустит тот луч, нипочем.
В чашу вбирая, но тем не губя,
Пресуществляя, вдыхая, любя,
Белая, примет златистость в себя.
Скоро ночная сойдет тишина,
Лилия будет бледна, но видна,
В светы одета, и тайной сильна.
Бальмонт создает не только образ райского сада, но и сада-храма. Стихотворение "Во саду" изображает сбор яблок и принесение их Богу "пред сияющим амвоном"
Во саду - саду зеленом
Исстари - богато.
Там ключи журчат со звоном,
Встанет все, что смято. [...]
Сладки яблочки сбирали,
Рдянилося чудо
Красны яблочки мы клали
На златое блюдо.
Во саду - саду зеленом
Блеск мы громоздили.
Пред сияющим амвоном
Цвет был в новой силе.
Наше Солнце было ало,
К Богу пело вольно
"Вот возьми! Прости, что мало!"
Бог шепнул: "Довольно".
Творческая фантазия Бальмонта создает поэтический иконостас. В его изображениях видны колос, цветок, деревья с плодами среди первоначальных созвездий, пустынь, кочевий, ликов святых. Этот необычный образ немного напоминает иконостас абрамцевской церкви, на тяблах которого изображены цветы, звезды, кометы, Солнце и Луна.
На моем иконостасе - Солнце, Звезды, и Луна,
Колос, цвет в расцветном часе, и красивая Жена,
Облеченная в светила, в сочетаньи их таком,
Как когда-то в мире было в ночь пред первым нашим днем.
А еще в плодах деревья красят мой иконостас
Ширь пустынь, ключи, кочевья, звездосветность ждущих глаз,
Несмолкающая птица, блеск негаснущих огней,
И пресветлая Девица, луч последних наших дней.
Пессимистические образы инобытия, преобладающие у Блока, отразились в двух его стихотворениях о райских птицах. Вдохновившись картиной В.М. Васнецова "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали" (1896), молодой поэт описал не самих птиц, а их пророческие песни.
История этих образов уходит в глубокую старину. В народном, преимущественно старообрядческом творчестве античные Сирена и Алкиона превратились в "птиц с ликом девы". Вылетая из райского сада, они поют о будущей жизни. Тот, кто слышит эти песни, не в силах оторваться, и идет за ними пока не умрет от усталости. Поэтому на народных картинках изображается, как Сирина и Алконоста отгоняют выстрелами из пушек.
Этот многосложный образ, соединяющий в себе жизнь и смерть, привлек чрезвычайный интерес художников и литераторов именно в эпоху символизма. Васнецов придал индивидуальность этим парным образам и придумал легенду о светлой и темной прорицательницах. Журнал "Мир искусства" посвятил этой теме специальную иллюстрированную статью [Ясинский И. Сирены и Сирины // Мир искусства. 1899. № 11-12. С. 17-19
]. В этом же году появляется стихотворение Блока.
Его Сирин вещает райское блаженство и свет Рая.
Густых кудрей откинув волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин счастья полный
Блаженств нездешних полный взгляд.
И, затаив в груди дыханье,
Перистый стан лучам открыв,
Вдыхает все благоуханье,
Весны неведомый прилив...
И нега мощного усилья
Слезой туманит блеск очей...
Вот, вот сейчас распустит крылья
И улетит в снопах лучей!
Черноперый Алконост, сидящий на "ветвистом троне", тоже пророчествует о будущем, но о печальном и трагическом.
Другая — вся печалью мощной
Истощена, изнурена...
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна...
Напев звучит глубоким стоном,
В груди рыданье залегло,
И над ее ветвистым троном
Нависло черное крыло...
Вдали — багровые зарницы,
Небес померкла бирюза...
И с окровавленной ресницы
Катится тяжкая слеза...
Блок развивает образ Васнецова, окружая Сирина снопами небесного сияния и сгущая тьму и багровые отсветы вокруг фигуры Алконоста. В том же 1899 году он пишет стихотворение "Гамаюн, птица вещая". Это отклик на еще одно произведение Васнецова — графический лист с изображением еще одной птицы Рая. На этот раз она сидит на одиноком стебле, растущем из воды.
В этом стихотворении неясная тоска Алконоста превращается в цепь апокалиптических пророчеств.
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..
Птица райская в этих стихах сменяется "птицей вещей". Очаровывающее пение — самое важное свойство фольклорного образа (который через несколько лет появится и на русской сцене, в опере-мистерии Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"). Блок уходит от темы Рая и заставляет своих птиц говорить "вещую правду".
Народный образ райского сада вновь возникает в поэме Цветаевой "Егорушка", написанной в 1921 году. Здесь нет ни искажения райских образов, ни символистской двусмысленности.
Юный богатырь Егорка вместе со своим неразлучным другом волком выходит к ограде райского сада.
Последня корочка
Давно проглочена.
Глядит Егорушка:
Тын позолоченный.
За тыном - райский сад,
Глядит: кусты в цветах,
Меж них - скворцы свистят
На золотых шестах.
Дикие и простодушные как звери, герои начинают крушить "царский сад".
А сад - не просто сад:
В цветах скворцы свистят
На золотых шестах -
Знать сад-то - царский сад!
Егоркин - скорый суд,
Егоркин - грозный вид:
На кой цветы цветут,
Раз в брюхе - гром гремит?!
А волк-то вторит, сват,
Нос сморщив плюшевый:
"Зачем скворцы свистят,
Раз мы нe кyшамши?"
Вдруг перед ними появляется алый и белый туман, тропинка, а на ней Богородица с Младенцем и Святым Духом.
- Ась? -
Алой рекой - лиясь,
Белой фатой - виясь,
В небе - заря взялась,
В травке - тропа взялась.
И по тропе по той,
Под золотой фатой,
Плавной, как сон, стопой -
Матерь с дитей.
В белых цветах дитя -
Словно в снегах - дитя,
В белых <холстах> дитя -
Как в облаках - дитя,
В pyчкe платочек-плат
Алый-знать-клетчатый,
И голубочек над
Правым над плечиком
.
Младенец просит их о кротости, но и волк, и Егор бесятся о злости.
- "Ты злость-то брось, родной.
Ты мне насквозь родной!
Не только гость ты мой,
<Не быть нам врозь с тобой...>
Ты приходи, Егор,
Ко мне по яблочки!"
Ему в ответ Егор
С великой наглостью:
- "Что надо - сам беру,
Мой путь - к чертям в дыру,
Моя вся кровь в жару,
Овец сырьем я жру!"
И тут происходит чудо: Младенец проливает слезу, все в саду всполошились, а Егор и волк падают в раскаянии.
<Глядят на друга друг,>
Да вдруг - глядите-кось:
Платочком слёзку вдруг
Смахнуло дитятко.
Слеза-то крупная,
Платочек клетчатый.
И голубочек-Дух
Вздрогнyл на плечике.
В большом смятенье двор,
Скворцы всполохнуты.
<Стоит как столб> Егор,
Да вдруг как грохнется!
В мох-дёрн-песок-труху
Всем лбом - как вроется!
И <голосок> вверху:
- "Не плачь, - устроится!"
Сокрушенного Егорку утешают и Младенец, и деревья его сада:
И с материнских рук
Склонившись - дитятко:
"Рви, рви, опять взращу!
Семян-то множество!" [...]
Как будто сон какой!
Где царь тот крохотный?
Прикрыл глаза рукой. -
Рука мокрехонька! [...]
А деревцо вверху:
- "Рви, рви, опять взращу!
Греши, опять прощу!"
Егорий полюбил Божий мир, который стал для него единым садом. Чудо преображения, умягчения злого сердца жертвенной кротостью изображено в поэме настолько ярко и достоверно, что вызывает невольное сопереживание. Используя сказовую форму и приемы литературного авангарда, Цветаева придает древнему символу райского сада огромный эмоциональный заряд. Сцена в райском саду — переломная. Далее Егор становится пастухом, живет с людьми, и в конце концов попадает в народный рай, Серафим-град.
На холмах крутобоких, смуглых
Дивный град предстоит лазорев.
Не рабочьей рукою поднят,
С изначального веку - сущий,
Трудолюбием рук Господних
Прямо с облака наземь спущен.
И у этого города есть черты райского сада:
А как дважды ступнул - мурава пошла рость,
А как третий ступнул - виноград сладкий гроздь.
Составные образы райского сада, возникшие в поэзии Блока, Бальмонта, Цветаевой, находят себе параллели во многих видах изобразительных искусств, особенно в храмовых росписях и архитектурном декоре конца XIX — начала ХХ века. Во всех случаях используются отдельные мотивы — ограда, пышная тропическая растительность, райский золотой воздух, драгоценные материалы, виноград, пальмы, птицы Рая, образы Богородицы, младенца Христа. Из их соединения возникают символические образы, окрашенные разными эмоциями, но восходящие к единым архаическим истокам.
Б.М. Соколов, 2008
Василий Григорьевич Перов. Христос в Гефсиманском саду.
Следуя структуре модернистского романа, Пастернак, подобно Гессе в «Игре в бисер», помещает в конце романа «Доктор Живаго» цикл стихотворений главного героя. События романа получают завершение и окончательное осмысление в контексте заключительного лирического цикла, итоговое стихотворение которого - «Гефсиманский сад» - становится ключом к пониманию не только поэзии доктора Живаго, но и романа Пастернака в целом, ибо в данном случае Библия дает писателю отнюдь не материал для интеллектуальной постмодернистской игры с читателем, но становится контекстом, раздвигающим рамки действительности. Так что, переживая революционный слом русской цивилизации, автор и его герой видят, как современность повторяет события, произошедшие в Гефсимании и на Голгофе, заново погружаются в них, поскольку человек со времен Христа, как учил Веденяпин, живет не в природе, а в истории, - а если более точно следовать пастернаковскому замыслу, то в Евангельской истории, увенчивающейся Воскресением.
Уже в первой главе, в которой хоронят Живаго, мать Юрия, появляется аллюзия на евангельский вопрос: «Что ищете Живаго с мертвыми?» (Лк., 24:5), вошедший в пасхальные песнопения. Главный герой, живой среди мертвых, пребывает в двух измерениях: сакральном и революционном; вневременном и сиюминутном.
В результате современность для писателя становится частью священной истории, вбирая в себя происшествия Гефсиманского сада, Голгофы, Страшного суда. Революционная Россия для Пастернака - это тот же Гефсиманский сад, в котором вершится неправый суд над Человеком, над Живаго.
При этом «Гефсиманский сад» живет в большом времени, в котором человек настолько плотно связан с историей, что на суд к Воскресшему Христу поплывут не поколения людей, а века. Человек не только живет, но и умирает в истории, которая становится вселенским кладбищем. Таким образом века - это метонимическое обозначение человечества, ибо Гефсиманский сад Пастернака омывается не столько веками, как суша океаном, сколько, подобными волнам, поколениями людей.
А следовательно, Гефсиманский сад становится предельно концентрированной формой жизни всечеловеческого единства в сгустившемся времени. Так, возникает модернистская гиперметафора, объединяющая разнородные образы веков, поколений, пространств, и становящаяся обозначением райской полноты бытия.
«Ранее, прослеживая основные события земной жизни Христа (рождение; въезд в Иерусалим; чудо о смоковнице; суд фарисеев), Пастернак строго следовал евангельской хронологии. В «Гефсиманском саде» эта хронология сознательно нарушается».
В результате история земная и священная переплетаются в лирическом и эпическом пространстве романа, - переплетаются они и во время допроса Юрия Живаго, когда Стрельников с вызовом говорит ему:
« — <…> Сейчас Страшный суд на земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора» .
Гефсиманский сад в интерпретации Пастернака вмещает в себя не только Евангельского время, но и современность: апостол Петр, подобно Стрельникову, берет в руки оружие, чтобы стать апостолом, верящим, что пролитая кровь может быть оправдана величием поставленной цели , а также вмещает апокалиптическую развязку истории, когда на суд к воскресшему Христу столетья поплывут из темноты.
Итак, Гефсиманский сад становится обладателем предельной полноты бытия, вобравшей в себя Евангельски-вечное прошлое, революционное настоящее и апокалипсическое будущее. Эта полнота бытия сада воистину Божественна, поскольку еврейское имя Бога - Яхве - сложилось из первых букв, обозначающих Настоящее, Прошлое и Будущее. Возникший в результате такой аббревиации еврейский термин передается в русском Евангелии словом Сущий, а следовательно, пребывающий во всех трех ипостасях времени. Развернутый этимологический комментарий к имени Яхве выложен на сайте катакомбной Церкви в статье без имени автора, который, впрочем, повторяет общеизвестные и признанные Православием истины, но подробно, фактологично: «Бог открывает Свое имя посредством священной тетраграммы;;;; (на палео-иврите: hwhy), предположительно звучащей как ЯХВЕ. Собственно ЯХВЕ есть аббревиатура трех понятий: “был”, “есть”, “будет”, не имеющая адекватного перевода. Форма прошедшего времени глагола;;; (Хайа), означающая “Он был”, “Он становился”, объединяется в имени ЯХВЕ с формой настоящего времени того же глагола - ;;; (Хве) - “Он есть”, “Он - Сущий”, и с формой его будущего времени;;;; (Йах’йе) - “Он пребудет”. Композиция трех форм глагола “быть” и образует имя ЯХВЕ. После произнесения этого имени Бог заповедует Моисею: “Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род” (Исх. 3:14-15)».
Пространство Гефсиманского сада склонно расширяться также, как и время:
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
Смертельная скорбь и моление о чаше до кровавого пота звучат трагично и сурово, - так трагична и сурова революционная история, лишенная благодати времени и ставшая революционным безвременьем. Однако это безвременье осмысляется в контексте античной трагедии, немыслимой без катарсиса, которым становится Воскресение Христа.
В результате момент Гефсиманской трагедии ощущается у Пастернака не столь остро, ибо поэт пребывает в большом хронотопе, превозмогающим Голгофу - воскресением из гроба.
Устремленность к катарсису делает последнее стихотворение цикла близким концепции личности Льва Толстого, который показывает, как в момент обновления любовью к Наташе Андрей Болконский видит зазеленевший дуб, и все лучшие минуты жизни воскресают в его памяти, но среди этих лучших воспоминаний появляется и лицо мертвой жены с приподнятой губкой. Момент духовного напряжения соединяет и воскрешает в памяти все самые лучшие и все самые болезненные переживания князя. Для Толстого и Пастернака духовное и физическое воскресение становятся формами трагического катарсиса, соединяющего нестерпимое страдания с духовной эйфорией и переплавляющего трагизм страданий в восторг обновления. В результате кульминация истории человечества, как описывает ее Пастернак, - события Гефсиманского сада, - соединяют ужас предательства с жизнеутверждающей радостью, то есть, как и у Толстого, соединяют все самое болезненное и трагическое со всем истинно прекрасным.
Ключ к пониманию состояния, описанного Пастернаком и Толстым, могут дать мартирологи, описывающие благодать и муку мучеников за Христа.
Следовательно, страдания Христа в Гефсиманском саду очеловечены Пастернаком, так как увидены сквозь призму традиции мартирологов, в то время, как единственным мучеником, не получившим благодати, был сам Христос, испытавший ту меру богооставленности, которая никому более неизвестна и непосильна.
Гефсиманский сад Пастернака, как и Дуб в глазах Андрея Болконского, вызывают чувство трагизма жизни и восторг обновления, показывая, что полнота бытия - это переживание не столько радости, сколько блаженства, выросшего из страдания и преодолевшего его.
В результате стихотворение и весь роман завершаются утверждением Гефсиманского сада как вместилища полноты бытия. А следовательно, сад для Пастернака - это выросший из бездны страдания земной рай, торжество жизни и воскресения над революционным безвременьем.
Однако в Библии Гефсиманский и Эдемский сад явно противопоставлены, также как райское древо познания противопоставлено крестному древу, а изгнание Адама - вознесению Христа. Символы древа и сада получают две противоположных трактовки. Библейская логика такова: в рай можно войти только теми же вратами, через которые был изгнан Адам, то есть добро и зло должны быть внешне тождественны, но духовно противоположны. Так, формируется традиция двойной символики, происходит удвоение смысла символов, каждый из которых может обладать и прямым, и противоположным значением.
Библейский Райский сад стал источником греха и изгнания Адама - следовательно, должен быть обновленный Евангельский сад, место преодоления греха и изгнания. Новозаветный сад - Гефсиманский - это антирай. Этот сад оказывается проекцией ада на землю, в котором человек оказался хуже демона и убил Бога.
Двоение символов отражает разнонаправленность воли и судеб Ветхого Адама и Нового - то есть Христа. Ветхий Адам вопреки своей чистой первозданной природе впал в грех непослушания, вкусил от запретного райского древа и был изгнан из Эдема. Новый Адам, также вопреки Своей безгрешной природе, страдал за грех первого Адама, был послушен Отцу - и умер на крестном древе, чтобы ввести изгнанников в Рай.
Это зеркальное повторение истории изгнания из рая в повествовании о его обретении делает зеркально повторяющимся и архетипический смысл сада. Если в Ветхом завете, сад - локус райского блаженства и богообщения, то в Новом - это место скорби, одиночества из-за предательства и адских страданий.
Однако в архетипической памяти человечества райский сад закрепился прочнее адского, знание о котором в культурном смысле оказалась малопродуктивным. Дальний отсвет этой памяти, может быть, сказался только в образе леса самоубийц из седьмого круга «Ада» Данте.
История суда человечества над Богом зеркально повторяется в истории Страшного Суда Бога над человечеством. Причем поворотным пунктом от одной истории к другой оказывается Воскресение Христово.
Итак, Гефсиманский сад оказывается для Пастернака вместилищем обоих вариантов суда, и всех трех ипостасей времени, а следовательно, единственным вместилищем жизни в колоссальных пространствах небытия, ведь «только сад был местом для житья» , местом полноты бытия. В результате даже в этом стихотворении сохраняется преемственность с садами поздних идиллий Делиля, ставших вариациями на тему земного рая.
Говоря о метафизике сада, следует отметить, что его архетипический смысл, как у Делиля, так и в русской литературе в целом, в поэзии и особенно в драме, сформирован образом блаженного Эдема. Противопоставленный адищу города, сад в литературе живет своей независящей от времени райской жизнью.
В истории культуры оказываются наиболее устойчивыми те образы, которые обладают архетипическими корнями и сакральным смыслом, претерпевшем в повседневном бытовании секуляризацию. Делиль обыгрывает и, играя, воскрешает сакральный смысл сада в следующих стихах:
Ведь сам Элизиум, дарованный богами,
Не мраморный дворец, а рощи меж лугами,
Цветущий светлый сад с кристальною рекой,
Где сладок праведным и отдых и покой.
Тема сада как места блаженства и жизнетворной силы лейтмотивом проходит через книгу Делиля:
От века нас вода и радует, и манит.
В ней - жизнь: все без нее хиреет, чахнет, вянет,
Она поит луга, и нивы, и леса,
В ней отраженные сияют небеса.
Источником райской жизненной энергии предстает вода, поскольку именно она отражает небо и оплодотворяет землю. Мы видим, что для Пастернака, как и для Делиля характерен прием расширения пространства и тема райской полноты бытия, которую не могут уничтожить ни зимние заморозки - у Делиля, ни даже страдания самого Христа - у Пастернака.
Терновник, весь в шипах; смолистая сосна,
Узорнолистый плющ - им стужа не страшна -
И благородный лавр, блестящий и кудрявый,
Который все века считался знаком славы.
В их темной зелени то тут, то там пестрят
Пурпурные плоды - им глаз особо рад.
Когда кусты вокруг печально оголились
И словно пред зимой безропотно склонились,
С успехом зимний сад украсят вам они.
Туда придете вы, чтоб в солнечные дни
Полюбоваться вновь игрой теней и света;
Там птицы зимние, найдя частицу лета,
Почувствовав тепло и яркий свет дневной,
Забыв, какой сезон, засвищут, как весной.
Райское бытие устойчиво, не подвержено переменам, обладает внутренним источником бытия и преображает холод и муку - в радость и жизнь, - вот важнейшие признаки земного рая в художественном мире обоих писателей.
Гефсимания резко порывает с идиллическим переживанием сада, ибо время в его Гефсимании замерло на моменте трагедии, которая длится вечно:
Под мирной сенью сада Гефсиманского
С учениками тихо Он беседовал,
Но прибежали люди в изумлении
И говорят: - Тебя все ищут, Господи -
И воины по воле прокуратора,
И дерзкие рабы первосвященника!
Они хотят схватить Тебя, о Господи,
И для Тебя давно уж приготовили
Неправый суд, и казнь, и поругание.
И на Голгофу в багрянице Он взошел,
И крест вознес над миром истомившимся,
Где на путях надежды и отчаянья
В трудах о хлебе, славе и спасении,
И в безднах душ людских, и в книжной мудрости
Из века в век Тебя все ищут, Господи,
И засевают души добрым семенем,
И пожинают добрый плод, и плевелы -
Но непосилен крест и тяжек путь к Тебе,
И жажда не скудеет, ибо Ты сказал,
Что много званных есть, но мало избранных...
Так как же стать нам избранными, Господи!?
(«Назарянин»: XII)
Воскресение Христово остается знанием фоновым, не вербализованным в данном стихотворении. Люди же, влачащие свой неподъемный крест, ищут Христа страждующего. Вся земля - Гефсимания, полная труда и скорби и не пережившая катарсиса, ибо на ней ищут Господа страдающего, и неизвестно, нашли ли.
В лирике Андрея Голова знание о Воскресении не отменяет горечи событий Гефсиманского сада, в которых заложена суть того, что нужно знать для спасения всем, даже святым египетским отцам:
Страны забесовленной чертоги и долы
Молитвой и верой омыв,
Сердцами разверстыми вы вняли глаголы
С ветвей гефсиманских олив.
А ваше смирение от века готово
Внимать Господним речам:
Не зря в Рождестве Своем изволило Слово
Притечь Еммануилом к вам.
(Египетские отцы)
Притечь Еммануилом - то есть Богомладенцем, совершившим на руках Богометери бегство в Египет. И этого чуда египтяне удостоились именно за будущее приятие важности событий Гефсиманского сада.
Горечи Гефсиманского сада у Андрея Голова часто, особенно в ранней лирике, противостоит идиллический хронотоп города:
И лишь где-то, безмолвию в укор,
над студенческим дальним переулком
соловьиному соло
вторят гулко
добрый смех и гитарный перебор.
(Два века)
Поразительно, что соловьиным оказался не сад, а городские переулки возле дома поэта - соловьиная Москва.
Идиллический град возникает в таких стихотворениях, как «Москва Аполлинария Васнецова», «Москва-матушка», «Иверская».
Следовательно, возможны два культурных вектора: ветхозаветный, отталкивающийся от адища города и возводящий в Эдемский сад (такая смысловая динамика характерна для Пастернака), а другой, значительно более редкий новозаветный культурный вектор, преодолевающий адский, или Гефсиманский сад, и устремляющийся к Граду Небесному - к Горнему Иерусалиму.
Для лирики Андрея Голова разных периодов бывал характерен то ветхозаветный, то новозаветный принцип сопоставления сада и града.
А в ранней лирике встречается эстетизация Гефсиманского сада:
Сына Марии ждет славный удел спасенья.
Ждут Его синедрион, крест и Пилатов суд -
И в Гефсиманский сад с учениками вровень
Старые мастера следом за Ним придут
И принесут тебе тела Его и крови,
И отстранят свечой сумерки красоты,
И подадут холсты, словно подносы в храме,
Чтобы вкусил и ты, чтобы испил и ты
Света, что был и есть в мире и над мирами.
(Старые мастера)
Однако и здесь не происходит трансформации Гефсиманского сада в сад идиллий Делиля, скорее поэт следует христианской традиции видеть в ранах Христа и мучеников - украшение. Старые мастера принесут нам плоти Его и крови, то есть изобразят на картинах Моление о Чаше, страсти Христовы, но в этих духовных сюжетах будет полнота красоты, которой отстранятся современные либо даже языческие эстетические сумерки, то есть произойдет переосмысление категорий прекрасного. А в результате созерцание одновременно страшного и благодатного страдания Господа в Гефсиманском саду станет для зрителя картин своего рода Таинством Причастия, ибо красота призвана вызывать катарсис в душе зрителя, вырывать его из серых будней с их сумерками красоты и вводить в мир торжества Гефсиманского сада. Показательно, однако, что даже в этом стихотворении старые мастера, пришедшие в сад с апостолами, принесут весть не о Воскресении, как полагается апостолам, а о Страдании. Словом, даже при условии эстетизации, Гефсиманский сад в лирике Андрея Голова не обретает черт Эдема.
Притом сад в его поэзии получал и другие неожиданные трактовки. Так, в пятом стихотворении цикла «Четыре слова о сатори» дается характеристика сада камней:
Ты погружаешь в явь свое “я”, как старинный храм,
Пребывающий одновременно по ту и по эту
Сторону озарения. Поучительный сад камней
Мудр - и бессмыслен, как всякие поученья,
И любовь, если дух растворится всецело в ней,
Лишь сплетает новые звенья
В цветочной цепочке рабства…
Стихотворение проникнуто ироническим скептицизмом, позволяющим поэту вести постмодернистскую игру с читателем, прихотливо нанизывая на единую лирико-повествовательную нить реалии японского быта и менталитета.
В контексте же китайской культурной традиции появляется промозглый облетающий сад:
Осенний сад за ветром признает
Размашистое право обнаженья…
(Ласточка судьбы)
Развивая концепцию «Психологии творчества» Льва Выготского, следует отметить, что, наравне с аффективным противоречим, в основе творчества лежит архетипический багаж писателя, позволяющий ему в текучей действительности видеть сакральные смыслы, делающие произведение, построенное на их основе, не сиюминутной зарисовкой с натуры, но шедевром на века. На образ сада чаще всего накладывается сакральным смысл райского сада или Гефсимании, своего рода земного ада, ставшего антиподом Эдема.
В Творчестве Пастернака архетипический смысл Эдема доминирует даже над образом Гефсиманского сада.
Корнесловное значение слова «Гефсимания» - «давильня для масла», то есть давильня маслин, а образ раздавленных плодов (в Новом Завете - виноградин) становится символом смерти, использованным также Ролланом в развязке «Очарованной души». И именно этот сад раздавленных плодов и надежд, адский сад, и противопоставленный ему райский град, часто задают эстетические и ценностные полюса в лирике Андрея Голова.
Литература
1. Богословие имени // Русское Православие. - 2007 - № 26 (45) - [Электронный ресурс.] Режим доступа: свободный. Дата обращения 6 мая 2016 г.
2. Власов А.С. «Стихотворения Юрия Живаго» в художественном контексте романа «Доктор Живаго» (Поэтико-функциональный аспект): «Гефсиманский сад»// Власов А.С. «Стихотворения Юрия Живаго» Б. Л. Пастернака (Сюжетная динамика поэтического цикла и «прозаический» контекст). Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2008. С. 175—194.
3. Голов А.М. Циклы стихов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/avtor/20715152&book=1#1 свободный. Дата обращения 11 апреля 2016 г.
4. Делиль Жак. Сады. Ленинград: Наука, 1987. 228 с.
5. Пастернак Б.Л. Полное собр. соч. в 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004—2005. Т. IV. 548 с.
В процессе исторического развития каждое общество формировало свой, особый вид искусства, и редкостью, исключением из правил были общества, в которых искусства не было вообще. Каждая из его разновидностей, в свою очередь, имела собственные характерные признаки, и чем раньше начинала формироваться та или иная ветвь искусства, тем проще были ее признаки. Первым и самым простым из таких признаков были, конечно, определенные знаковые системы. А вторым - и первым на абстрактном уровне - стали символы в широком понимании этого слова. Так как зарождение искусства в наипростейшем виде можно отнести к тому времени, когда появился первый человек, и поскольку оно стало фактически одним из первых способов коммуникации, большинством символов было то, что первобытные люди видели и боготворили, - элементы природы.
Амарант, благодаря своим природным особенностям - стойкости, выносливости в условиях засух и необычному внешнему виду, не мог не стать одним из таких символов. Легенды, где это растение играло главенствующую роль, сохранились со времен древних инков. Не обошла вниманием амарант Древняя Греция, где растение и получило свое сегодняшнее название.
История амаранта в искусстве насчитывает, таким образом, несколько тысяч лет. Началась она с , а продолжается во всех видах современного искусства - в музыке, в живописи, в кинематографе и, конечно, в прозе и в поэзии.
Пожалуй, неудивительно то, что именно поэзия эксплуатирует образ амаранта больше всего. Знаки (в данном случае слова) в ней наиболее многовариантны и имеют наибольшее количество потенциальных трактовок за счет взаимосвязи с другими словами - которые, в свою очередь, имеют свое обширное поле толкований. Если образ амаранта в прозе, в живописи, в музыке достаточно однозначен и предполагает обычно ассоциации с бессмертием и отсутствием увядания, реже - с исцелением, то в поэзии количество значений многократно возрастает, а если точнее - они наслаиваются друг на друга иногда не в два, а в три, четыре слоя.
Амарант в английской поэзии
В качестве одного из самых ярких примеров здесь можно привести поэзию английского классика XVII века Джона Мильтона. В наиболее известной своей поэме «Потерянный рай» он раскрывает классический сюжет - борьбу добра и зла - через религиозные образы Творца и Сатаны, рая и ада, резко их противопоставляя. Безоговорочное разделение этих образов на «свет» и «тьму» стало характерной чертой литературы эпохи Возрождения, и это дает право предполагать, что Мильтон не заимствовал традиционные символы у других поэтов и прозаиков своего времени, а создавал их самостоятельно, руководствуясь, вероятнее всего, фольклором и отчасти античными представлениями о том или ином символе. Любопытен на этом фоне Мильтоновский образ амаранта. С одной стороны, поэт относит амарант к райскому цветку, не допуская иных трактовок:
… Едва изрек Творец, как прогремел
Ликующий, тысячезвучный клич
Средь Ангельского сонма. Стройный хор
Восторженной «осанной» огласил
Весь Эмпирей. Смиренно преклонясь
К подножьям Тронов Сына и Отца,
Слагают Ангелы венки свои,
Где золото и вечный амарант
Близ Древа жизни , но, когда Адам
Ослушался, - на Небо снова взят,
Прародину свою; теперь цветок
Источник жизни снова осенил ,
Где волны амбры средь Небес влечет
Блаженная река, среди полей
Элизия. Невянущим Цветком
Благие Духи кудри украшают
Лучистые свои; теперь венки
Устлали пол, сверкавший в багреце
Душистой россыпи небесных роз,
Улыбчиво - подобно морю яшм …
(перевод А. Штейнберга)
С другой стороны, несмотря на то, что амарант предстает в образе райского растения, очевидно, что Мильтон связывает его не с самим раем, а с человеком, который возвращается в рай после земных странствий, на что недвусмысленно намекают строки:
… тот амарант, что цвел в Раю,
Близ Древа жизни, но, когда Адам
Ослушался, - на Небо снова взят,
Прародину свою; теперь цветок
Источник жизни снова осенил …
Интересно следующее. «Райскими» в литературе этого времени уже становятся элементы природы (в частности, растения), которые в быту практически не использовались, а обладали эстетической привлекательностью вкупе со значительной символической нагрузкой. Такие растения  воспевались в фольклоре на протяжении нескольких сотен лет до Ренессанса, и чем больше времени проходило, тем сильнее они «отрывались от земли», приобретая все больше абстрактных черт и теряя конкретные. В противовес им образ растений, повсеместно использующихся в быту, в том числе целебных, и в литературе, и в живописи выглядит значительно более конкретизированным, более «приземленным»: цветы и травы не теряют в произведениях поэтов реальных свойств и не обрастают мистическими. Отсутствие избыточного символизма по отношению к амаранту в английской поэзии позволяет предположить, что это растение было известно и английским целителям XV–XVII вв., благодаря чему его образ в произведениях искусства достаточно точен.
воспевались в фольклоре на протяжении нескольких сотен лет до Ренессанса, и чем больше времени проходило, тем сильнее они «отрывались от земли», приобретая все больше абстрактных черт и теряя конкретные. В противовес им образ растений, повсеместно использующихся в быту, в том числе целебных, и в литературе, и в живописи выглядит значительно более конкретизированным, более «приземленным»: цветы и травы не теряют в произведениях поэтов реальных свойств и не обрастают мистическими. Отсутствие избыточного символизма по отношению к амаранту в английской поэзии позволяет предположить, что это растение было известно и английским целителям XV–XVII вв., благодаря чему его образ в произведениях искусства достаточно точен.
Свою природную стойкость амарант сохраняет в «Потерянном рае» на протяжении всей поэмы. Несмотря на борьбу, в результате которой расстановка сил добра и зла существенно изменилась, амарант по-прежнему остается райским растением и, очевидно, способствует возвращению человека на небеса. Иначе трудно трактовать отрывок, где обращение добрых сил к «сынам» предваряется выходом ангелов именно из амаранта:
… Трубленье Ангельское разнеслось
По всем краям Небесным; отовсюду -
Из амарантовых, счастливых кущ,
От берегов ручьев живой воды,
Где Дети Света, в радостном кругу,
Общались меж собой, - они спешат
На Царский зов, занять свои места;
С Престола высочайшего Господь
Веленье всемогущее изрек:
Сыны Мои!..
(перевод А. Штейнберга)
Многослойность образа амаранта предстает, таким образом, в «Потерянном рае» во всем великолепии. Базовый слой - целительное растение, вполне материальное и без дополнительной символической нагрузки, Мильтон позаимствовал, вероятно, наблюдая за природой или общаясь с  целителями, но, очевидно, не из фольклора, иначе уже в основании образа Мильтоновского амаранта просматривались бы божественные черты. Далее поэт использует название «амарант» и его природные качества для награждения этого растения традиционным в данном случае эпитетом «невянущий». И уже следующее значение - следующий слой - это цветок, который «цвел в раю», но исчез оттуда, когда Адам совершил свой грех. Т. е. амарант переносится на землю вслед за изгнанным из рая преступником. Однако на земле растение поддерживает смертных на пути к очищению и возвращению в рай и вместе с вознесшимся на небо человеком вновь расцветает в райском саду. Амарант у Мильтона - неувядающий, вечный спутник человека на пути к полному исцелению, очищению и вечной счастливой жизни («…из амарантовых, счастливых кущ…»
).
целителями, но, очевидно, не из фольклора, иначе уже в основании образа Мильтоновского амаранта просматривались бы божественные черты. Далее поэт использует название «амарант» и его природные качества для награждения этого растения традиционным в данном случае эпитетом «невянущий». И уже следующее значение - следующий слой - это цветок, который «цвел в раю», но исчез оттуда, когда Адам совершил свой грех. Т. е. амарант переносится на землю вслед за изгнанным из рая преступником. Однако на земле растение поддерживает смертных на пути к очищению и возвращению в рай и вместе с вознесшимся на небо человеком вновь расцветает в райском саду. Амарант у Мильтона - неувядающий, вечный спутник человека на пути к полному исцелению, очищению и вечной счастливой жизни («…из амарантовых, счастливых кущ…»
).
Не менее любопытно Мильтоновское представление об амаранте в поэме «Люсидас», которая была написана в память об утонувшем друге поэта. Произведение представляет собой пасторальную элегию, в которой скорбь по безвременно погибшему другу и общее идеалистическое настроение сочетаются с философскими рассуждениями о смерти. Амарант здесь имеет эпитет «скорбный», однако его образ появляется в тот момент, когда поэт почти смиряется со смертью и, более того, идеализирует ее, надеясь и даже будучи уверенным в том, что его друг в загробной жизни куда более счастлив, чем был здесь, на Земле.
… Пусть скорбный амарант, нарцисс печальный
Нальют слезами чашечки свои
И царственным покровом в миг прощальный
Устелют море, коим у семьи
И сверстников наш Люсидас похищен.
Но, пастухи, смахните слезы с глаз.
Довольно плакать, ибо друг наш милый
Жив, хоть и скрылся под водой от нас.
Так в океане дневное светило,
Когда оно урочный путь свершило,
Скрывается, дабы в свой срок и час
С чела небес опять сверкнуть алмазом.
Уйдя на дно, наш друг вознесся разом
По милости творца земли и вод
К нездешним рекам и нездешним кущам,
Где хор святых угодников поет
Хвалу перед престолом присносущим …
(перевод Ю. Корнеева)
В «Люсидасе» довольно очевидна отсылка к Древней Греции и, в частности, древнегреческим мифам. Греки высаживали это растение на могилах погибших с честью воинов, чье посмертие должно было оказаться более счастливым и беззаботным, чем земное существование. Сажали его  преимущественно друзья или возлюбленная воина. Считалось, что амарант, ввиду своей стойкости, сумеет прорасти сквозь землю, чтобы погибший в подземном мире не остался голоден и так же, как в «Потерянном рае», смог пройти путь к вечной счастливой жизни.
преимущественно друзья или возлюбленная воина. Считалось, что амарант, ввиду своей стойкости, сумеет прорасти сквозь землю, чтобы погибший в подземном мире не остался голоден и так же, как в «Потерянном рае», смог пройти путь к вечной счастливой жизни.
Похоже, хотя и без религиозного символизма, воспринимает амарант другой английский мастер поэзии - Альфред Теннисон, автор знаменитой «Волшебницы Шалот» и любимый поэт королевы Виктории. В стихотворении «Вкушающие лотос» амарант - часть своеобразного «земного рая», природы, находящейся на пике цветения, природы, чья пышность и красота вызывает у человека почти мистический восторг:
… Но здесь, где амарант и моли пышным цветом
Везде раскинулись кругом,
Где дышат небеса лазурью и приветом
И веют легким ветерком,
Где искристый поток напевом колыбельным
Звенит, с пурпурных гор скользя, —
Как сладко здесь вкушать в покое беспредельном
Восторг, что выразить нельзя.
(перевод К. Бальмонта)
Именно о мистическом восторге позволяет говорить тот факт, что амарант и моли Теннисон ставит в один ряд и не упоминает более никакие другие растения. Моли - волшебный цветок в английском  фольклоре, предназначенный для устрашения злых сил. Существует теория, согласно которой прообразом моли был дикий чеснок. Амарант у Теннисона, по всей видимости, тоже обладает некими волшебными свойствами, и, возможно, именно поэтому картина, которую рисует поэт, вызывает «восторг, который нельзя выразить». Т. е. эти слова употреблены в прямом смысле: чувства, вызванные сверхъестественными силами, на человеческом языке действительно выразить нельзя. Другое толкование позволяет допустить, что амарант и растение, напоминающее моли, просто вызывают у невидимого героя ощущение очарованности, завороженности, делают для него окружающий мир особенно красивым и повергают в экзальтацию. А что вызвало это чувство - красота ли растений, их неувядаемость, жизненная сила или удивительные свойства, - остается только гадать.
фольклоре, предназначенный для устрашения злых сил. Существует теория, согласно которой прообразом моли был дикий чеснок. Амарант у Теннисона, по всей видимости, тоже обладает некими волшебными свойствами, и, возможно, именно поэтому картина, которую рисует поэт, вызывает «восторг, который нельзя выразить». Т. е. эти слова употреблены в прямом смысле: чувства, вызванные сверхъестественными силами, на человеческом языке действительно выразить нельзя. Другое толкование позволяет допустить, что амарант и растение, напоминающее моли, просто вызывают у невидимого героя ощущение очарованности, завороженности, делают для него окружающий мир особенно красивым и повергают в экзальтацию. А что вызвало это чувство - красота ли растений, их неувядаемость, жизненная сила или удивительные свойства, - остается только гадать.
Иначе говорит об амаранте еще один английский поэт, представитель романтической школы, Сэмюэл Тейлор Кольридж в стихотворении «Труд без мечты». Хотя если присмотреться, то можно увидеть, что образ растения не претерпел особых изменений по сравнению с Мильтоном и Теннисоном - просто изменился посыл:
Природа - это труд. Покинул жук нору.
Пчела жужжит, а в небе - птичий звон.
Зима с улыбкою заснула на ветру,
И на лице ее весенний виден сон!
Единственный, я праздность берегу.
Мед не несу, не строю, не бегу.
Смотрю на дюны я, где амарант ветвистый
Вокруг рассеял аромат душистый.
О, амарант! Цвети, цвети для всех .
Но только для меня цветенье грех!
Брожу с лицом поникшим, невесом,
Но как узнать, что душу клонит в сон?
Труд без мечты - ничто. Мечта - свобода.
Но быть должна направлена на что-то.
(перевод А. Дерябина)
Амарант у Кольриджа - все то же буйно цветущее, неувядающее, пышное растение, символ жизненной силы, беспечного и счастливого существования. Только к нему примешивается вечный философский вопрос о смысле человеческой жизни, и вся пышность, праздность цветущего растения приобретает на этом фоне другой оттенок. Герой стихотворения противопоставляет себя амаранту, и возможно, в этом также таится скрытый смысл, вложенный поэтом: бессмертному растению сама природа велела беззаботно цвести в свое удовольствие, а для смертного человека такая жизнь невозможна не только с материальной точки зрения, а и с психологической, и с моральной.
В XVIII веке к Мильтоновской трактовке образа амаранта возвращается современник Кольриджа - Перси Биши Шелли. Более того, если у Мильтона амарант - хоть и райское, но все-таки растение, то у Шелли образ приобретает антропоморфные черты, и амарант превращается в Амаранта - то ли полубога, то ли ангела. Остальные его способности - исцеляющие, очищающие, как и умение провести воина-героя через смерть к существованию в теле полубога, - сохраняются. В поэме «Освобожденный Прометей» Прометей призывает Амаранта на помощь измученным людям, которые впервые столкнулись со всеми напастями смертных:
… И страшный призрак смерти, не известный
Дотоле никому: попеременно
То зной, то холод, сонмом стрел своих,
В безвременное время бесприютных
Погнал к пещерам горным: там себе
Нашли берлогу бледные народы;
И в их сердца пустынные послал он
Кипящие потребности, безумство
Тревоги жгучей, мнимых благ мираж,
Поднявший смуту войн междоусобных
И сделавший приют людей - вертепом.
Увидев эти беды, Прометей
Своим призывом ласковым навеял
Дремоту многоликих упований,
Чье ложе - Элизийские цветы,
Нетленный Амарант, Нипенсис, Моли.
Чтоб эти пробужденные надежды,
Прозрачностью небесно-нежных крыл,
Как радугой, закрыли призрак Смерти …
(перевод К. Бальмонта)
Фактически именно у Шелли образ амаранта приобрел завершенность и стал тем традиционным для нас образом, который используется в современном мировом искусстве как устоявшийся и не требующий дополнительных разъяснений.
В целом образ амаранта в английской поэзии позволяет сделать два вывода относительно этого растения:
- Как знатные, так и простые люди были хорошо осведомлены об амаранте, а это значит, что на территории современной Британии он рос если не повсеместно, то во многих местах.
- Люди знали о полезных свойствах амаранта, среди прочего и о том, что его можно употреблять в пищу и что на продуктах из этого растения человек способен прожить достаточно долго. Это дает право предположить, что и целебные свойства растения использовались весьма активно. Последнее предположение подтверждает и упомянутый выше факт: несмотря на многочисленные предпосылки, образ амаранта в английской поэзии не отделился кардинально от амаранта в быту и остался довольно реалистичным.
Это в очередной раз свидетельствует о том, что амарант использовался в разных странах по всему миру задолго до недавнего «открытия» его свойств современными учеными.
Амарант в русской поэзии
В произведениях русских поэтов амарант часто начал встречаться, начиная с XVIII века. В более ранних поэтических текстах образ растения упоминается только у семинаристов, которые с помощью стихотворных форм учились облекать свои мысли в слова. По сути, это были домашние  задания, позже, на уроках, исправленные учителями, ввиду чего полноценной поэзией назвать эти произведения затруднительно. Амарант у учащихся упоминался либо как целебное растение (что неудивительно, поскольку лекари на Руси его использовали для лечения многих болезней и даже записи об этом оставляли), либо как растение, повсеместно растущее на родной земле семинариста. Ввиду последнего амарант иногда символизировал родной дом и землю. С историей амаранта семинаристы были редко знакомы, а потому использовать его образ как божественный символ и т. д. не могли, по крайней мере свидетельств этого не осталось.
задания, позже, на уроках, исправленные учителями, ввиду чего полноценной поэзией назвать эти произведения затруднительно. Амарант у учащихся упоминался либо как целебное растение (что неудивительно, поскольку лекари на Руси его использовали для лечения многих болезней и даже записи об этом оставляли), либо как растение, повсеместно растущее на родной земле семинариста. Ввиду последнего амарант иногда символизировал родной дом и землю. С историей амаранта семинаристы были редко знакомы, а потому использовать его образ как божественный символ и т. д. не могли, по крайней мере свидетельств этого не осталось.
В поэзии XVIII века амарант упоминается у Адриана Дубровского, ученика М. В. Ломоносова, в «Приключениях Телемака, сына Улиссова». Для России того времени произведение было нежелательным, поскольку роман «Приключения Телемака» Франсуа Фенелона, по которому делались максимум очень адаптированные переводы, описаниями французской монархии несколько дискредитировал русскую монархию. Однако работа Дубровского была опубликована в 1754 году, и образ амаранта в ней полностью повторяет образ амаранта из европейской литературы:
… Где вечный амарант с фиалкою цвели,
И многие пруды составили собою,
Подобны хрусталю своею чистотою.
Цветами разными поля распещрены,
Что вкруг пещеры сей лежат обведены.
Там виден частый лес и дерева густые,
На коих яблоки висели золотые …
Более того, удивительно сходство между образом амаранта Дубровского и пейзажем, им нарисованным в этом отрывке, и образом амаранта и райским пейзажем Мильтона в «Потерянном рае», который был написан веком ранее. «Золотые яблоки» Дубровского недвусмысленно указывают на рай, равно как и «вечный» амарант, и идиллическая картина природы в целом. Завершают сходство уже упомянутые строки из перевода Аркадия Штейнберга:
… Где золото и вечный амарант
Сплелись; тот амарант, что цвел в Раю,
Близ Древа жизни …
Что бы ни послужило причиной такого сходства, оно дает право предположить, что Дубровский раскрывал образ амаранта так же, как и его английский предшественник, и что амарант здесь также выступает божественным растением, символом рая - небесного или аллегорического земного.
Гораздо прозаичнее воспринимает амарант почти современник Дубровского, один из русских масонов, поэт Федор Ключарев. В стихотворении «Зима» он описывает это время года как всеобщее умирание и амарант вспоминает, очевидно, только благодаря свежему и насыщенному розовому цвету, которым известны некоторые сорта этого растения:
… Зима здесь смерть изображает, -
Когда постигнет серп ея,
Любезна юность исчезает,
Лишаясь жизни своея.
Уст сладких розы увядают
И амарант младых ланит,
Улыбки нежны застывают,
В очах огнь гаснет - не горит …
Пожалуй, «Зима» Ф. Ключарева - одно из немногих поэтических произведений, написанных до XX века, где амарант показан как обыкновенное растение, которое рано или поздно увядает.
В ироническом ключе упоминает амарант светский поэт XIX века Иван Мятлев в «Сенсациях и замечаниях г-жи Курдюковой за границей, дан л’Этранже», знаменитых своим высмеиванием жизни и характерных особенностей «света». Написаны они языком, представляющим собой забавное сочетание французского и обывательского русского - того русского, на котором разговаривали люди, стремящиеся к высокому положению в обществе, но по факту его не имевшие. Амарант упоминается в стихотворении, посвященном пребыванию главного героя во Флоренции:
… И нарочно, для фигуры,
Выбрали мы амарант ,
А на голове гирланд
Белых роз; вокруг шиньона
Де каме, три медальона,
Жемчуги э де коро
И большущее перо.
К традиционному описанию амаранта как неувядающего небесного цветка, который питает смертных жизненными силами, способными провести их даже через загробный мир, возвращается русский поэт Аполлон Майков. В стихотворении «Ад» амарант наряду с другой «божественной» пищей возвращает к жизни птичку, побывавшую под землей:
Из подземного из ада
С шумом вылетела птичка;
И, как вылетела, села
На траву и еле дышит.
Видят матери и сестры,
Сладкий мускус ей приносят,
Амарант и белый сахар.
«Освежися, пей и кушай! -
Уговаривают птичку, -
Расскажи нам, что в подземном,
Темном царстве ты видала?»
«Что сказать мне вам, бедняжки! -
Вздрогнув, вымолвила птичка, -
Смерть, я видела, как скачет
На коне в подземном царстве;
Юных за волосы тащит,
Старых за руки волочит,
А младенцев нанизала
Вкруг, за горлышко, на пояс».
Не отходит от этого образа А. Майков и в стихотворении «Чужбина». Здесь амарант также традиционно предстает в качестве растения, которому должно сопровождать человека после смерти:
… «Будь такой да у меня товарищ,
Я бы съесть земле его так не дал!
Я пошел бы к морю, к синю морю,
На широкое б пошел поморье;
Я б нарезал тростнику морского,
Смастерил бы гроб ему просторный,
Я б в гробу постлал ему постелю,
Всю б цветами, ландышами выстлал,
Всю бы выстлал свежим амарантом !»
Русский философ и поэт-символист Вячеслав Иванов говорит об амаранте в поэме «Геспериды», стихотворении «Eritis Sicut Dei». Если у Майкова амарант - все еще образ из природы, хоть и имеющий мистические свойства, то у Иванова это растение - изначально символ божественной силы, а природные его особенности остаются на втором плане как не имеющие значения.
… И, боязливый взор
Подъемля к письменам, прочел я: САВТОН ГНОФИ.
«Такою ли тебя, на этой ли Голгофе», -
Я с плачем восстенал, «о, Мудрость, нахожу?
Себя ли до конца познаньем осужу?
Затем ли с детских лет я, тайн твоих ревнитель
Душой алкающей сию взыскал обитель?..
Медностропильный твой мне снился храм. Виясь
По млечным мраморам, сплела живая вязь -
С лилеей амарант, нарцисс, и маки сонны,
И крокос солнечный, и розы благовонны.
Средь сеней лавровых и храмовых колонн
Пророков светлый сонм и вдохновенных жен
Скитался, упоен безмолвным созерцаньем,
Иль оглашал холмы воздушных лир бряцаньем,
Иль с шепотом листвы и тишиной небес
Сливал гармонии восторженных словес.
В русской поэзии амарант предстает условно в двух видах:
- Простой незамысловатый образ красивого цветка, который дарят женщинам, с которым сравнивают женщин или который, как и всякий другой цветок, украшает окружающий мир исключительно за счет своей эстетической составляющей.
- Традиционном - т. е. как божественное растение, ведущее смертных в рай.
Во втором случае, если в английской поэзии амарант и в райских садах предстает как растение или, по крайней мере, элемент, прообразом которого явно был именно цветок, то в русской поэзии  религиозная символическая нагрузка настолько значительна, что образ растения за ней как бы теряется и амарант символизирует непосредственно приближение к раю и богу, но опосредованно, т. е. сам он в «дороге человека к райским вратам» участия не принимает.
религиозная символическая нагрузка настолько значительна, что образ растения за ней как бы теряется и амарант символизирует непосредственно приближение к раю и богу, но опосредованно, т. е. сам он в «дороге человека к райским вратам» участия не принимает.
Из этого можно сделать следующий вывод. Очевидно, поэты, использующие первый образ, брали его из окружающей природы и не делали отсылки к более ранним европейским текстам, где амарант уже обладал отчетливой символичностью. В то же время поэты, который использовали религиозную составляющую, вероятно, руководствовались именно образом амаранта из текстов того же Мильтона, либо древнегреческими мифами, либо даже легендами древних инков, а амарант непосредственно в окружающей природе не наблюдали, вследствие чего образ обыкновенного растения и потерялся за мистическими чертами.
Амарант в поэзии других народов мира
Не только английские поэты вдохновлялись образом амаранта (и было бы странно, если бы это было не так). Упоминает растение в стихотворении «Южная станция» испанский поэт Рафаэль Альберти:
… Вот Малага. (Повсюду мрак лежит,
лишь стрелка-светлячок на циферблате
рулеткой обезумевшей кружит.)
О, побережных пальм наклон упругий
тот зонтик, под которым на своей
моторке ты по бухте чертишь дуги!
Читай меню вагона-ресторана:
гвоздика под селитрою и к ней
вино - мускат, как амарант багряный.
Прощай! Прощай! И уж теперь одна
в дороге ненасытным взором ветер
стремительных пейзажей пей до дна.
(перевод Ю. Корнеева)
Здесь просматривается отсылка к сравнению вина с нектаром, который пили древние боги. Вино резко противопоставлялось пище смертных, которая, как правило, в таких сравнениях отличалась скудностью, пресностью и бедностью вкуса, либо, наоборот, воспевалось со всей пышностью и аффектацией, свойственных литературе барокко. Но в данном случае использован первый прием: Альберти раскрывает повседневную жизнь через контрасты, отчасти даже горько  иронизирует: в «меню вагона-ресторана» «гвоздика под селитрою» - и в качестве насмешки над прозаической картиной подается прекрасное вино, багряный нектар. Амарант и здесь предстает в качестве божественного растения, попавшего на землю: заменив нектар в сравнении «вино, как нектар», образ растения принимает на себя дополнительную символическую нагрузку и отображает силу, которая питает и насыщает богов, - наряду с мифологическими амброзией и нектаром. Но это во вторую очередь, а в первую очередь читатель отмечает прямое сравнение с качественным мускатным вином - сравнение, вызванное цветом, но невольно на амарант переносятся и другие признаки хорошего выдержанного вина. На фоне общей картины, которую рисует Альберти, амарант, таким образом, становится одним из наиболее ярких и жизнеутверждающих, хотя и с примесью фатализма, символов стихотворения.
иронизирует: в «меню вагона-ресторана» «гвоздика под селитрою» - и в качестве насмешки над прозаической картиной подается прекрасное вино, багряный нектар. Амарант и здесь предстает в качестве божественного растения, попавшего на землю: заменив нектар в сравнении «вино, как нектар», образ растения принимает на себя дополнительную символическую нагрузку и отображает силу, которая питает и насыщает богов, - наряду с мифологическими амброзией и нектаром. Но это во вторую очередь, а в первую очередь читатель отмечает прямое сравнение с качественным мускатным вином - сравнение, вызванное цветом, но невольно на амарант переносятся и другие признаки хорошего выдержанного вина. На фоне общей картины, которую рисует Альберти, амарант, таким образом, становится одним из наиболее ярких и жизнеутверждающих, хотя и с примесью фатализма, символов стихотворения.
У другого испанского поэта, Роджера Сантиванеза, есть целый поэтический сборник, который называется «Amaranth Precedido de Amastris» . Собрана в нем преимущественно пейзажная, социальная и немного любовной лирики.
Также упоминания амаранта встречаются в итальянской поэзии и в греческих балладах, которые, к сожалению, на русский язык не переведены.
Полнота и радость бытия, трактуемые как «бунинская чувственность», не противоречат христианскому мироощущению. Мир, сотворенный Богом, целостен, совершенен, не может не радовать человека и не вызывать у него восхищение. И.А. Бунин особенно глубоко и тонко чувствовал тот «союз любви» и «гармонию», которыми «Бог связал целый мир, состоящий из разнородных частей». «Любовь и радость Бытия как христианская доминанта мироощущения И.А. Бунина опровергает распространенную доктрину о буддийском влиянии на основы мировоззрения художника.
Мотив «сладости» - один из преобладающих в лирическом творчестве поэта, а тропы, образованные от слова «сладость», наиболее частотны в его поэтических произведениях. «Сладость» как вкусовое качество и есть проявление обостренной сенсорной чувственности И.А. Бунина. Однако сладость не связана со вкусом. Сладким у И.А. Бунина может быть запах, звук, свет, имя, ощущение, воспоминание. Следовательно, сладость становится основной характеристикой восприятия человеком «божьего мира», лейтмотивом его поэзии: «Снова сладок божий мир» («Стали дымом, стали выше», 1917), «Так сладок сердцу божий мир» (1947) и т.д. . Перенос этого мировосприятия в сердце человека одушевляет его, переводит из разряда простой тактильной чувственности на духовный уровень. Природный мир И.А. Бунин не воспринимал как «соблазн». Для него природная красота безгрешна.
Одухотворяясь, «сладость» становится характеристикой того мироощущения, которое сам И.А. Бунин называл «райской чувственностью». Больше всего она характерна для натуры художника и присуща лирическому субъекту его поэзии. В богословской литературе понятие «сладость рая» является устойчивым словосочетанием, а сладость «божьего мира» в творческом наследии И.А. Бунина обусловлена «следами» рая в мире и человеке, которые без устали ищет поэт.
Мотивы рая и связанные с ним библейские сюжеты и образы входят в поэзию И.А. Бунина в качестве наиболее значимых в его картине мира.
Рай встречается во многих стихотворениях И.А. Бунина («Потерянный рай», «Древняя обитель супротив луны» и др.), приобретая доминирующее положение в его творческом сознании и получая при этом различное смысловое наполнение. С самого начала в поэзии И.А. Бунина появляется географический рай. Путешествия по Святой Земле и поездка на Цейлон способствовали активизации поиска земного рая в тех местах, где, по разным преданиям, он находился. Стремясь к подлинности, первозданности, И.А. Бунин ищет доказательства на уровне природных символов. Вместе с тем рай воспринимается И.А. Буниным как общая для всех людей прародина человечества. В связи с этим в его поэзии «географический рай» приобретает экзотические черты «рая» Цейлона. Общими становятся мотивы «земли прародителей», «красной глины», из которой был создан Адам, красоты и сладости земного бытия. При этом «тропический рай» И.А. Бунина актуализирует мотив искушения, так как Цейлон воспринимается им как райские места Адама и Евы, где отразилось ощущение постоянной искушающей силы жизни. Для И.А. Бунина эстетически значимой является чувственно переживаемая «география». Странствия по «райским местам» оказываются передвижением и в пространстве, и во времени. Географические реалии «вспоминаются» поэтом-путником, так как уже стали предметом художественного освоения в Библии. Подлинность мест, окружающих лирического повествователя, является главным показателем их значимости, а точность в описании пути – необходимым условием поэтического отражения действительности.
Путешествие И.А. Бунина по святым местам христианства, которое он называл паломничеством, привносят христологическое измерение в поиски его героем «потерянного рая». Способ переживания лирическим субъектом и повествователем событий земной жизни Христа представляет собой синтез памяти культуры, интуиции художника и особого поэтического дара. В результате путешествие «по следам Христа» оказываются для бунинского субъекта «обретением» Христа в Евангелии. Для И.А. Бунина Христос важен как реальный победитель смерти, как победитель Сатаны. Христос осознается им как вечная Сущность мира. Путешествия И.А. Бунина явились и чувственно переживаемым, и духовно осмысленным «возвращением» Адама в «потерянный рай».
Самым частотным пейзажным образом рая в русле библейской и культурной традиции у И.А. Бунина становится сад, который символизирует «вечную и благоуханную красоту» , которую можно чувственно ощущать. И.А. Бунин редко описывает цветущий сад, соответствующий человеческим представлениям о рае. Как правило, поэт изображает сад ранней весной или поздней осенью. В отличие от классической традиции, осенний или весенний сад у И.А. Бунина – это чаще всего «пустой», «голый» сад. Деревья или воздух в таком саду дают визуальный эффект гармонически целостного миробытия, в котором человек чувствует «счастье жизни». Сад является наиболее частотным «знаком» творческого состояния лирического героя – особого чувства свободы. Осенний или весенний сад актуализирует образ Адама и мотив «потерянного рая» на уровне лирического героя, для которого «возвращенным раем» становится его «райская чувственность».
Для И.А. Бунина «потерянным раем» становится Россия («Потерянный рай», 1919). В этом стихотворении, которое написано в традициях народного духовного стиха «Плач Адама», четко прослеживается авторское отношение к русскому народу, оказавшемуся в положении изгнанных из рая, поддавшихся искушению, социальной революции прародителей человечества. Особенно значимым в этом стихотворении является духовный аспект. Присутствие Адама и Христа в смысловом пространстве одного текста свидетельствует о точном следовании И.А. Бунина положению о том, что жертва Спасителя призвана искупить первородный грех прародителей. Финальная покаянная «молитва» павших прародителей, которые олицетворяли русский народ, перекликается с пророческими словами поэта о том, что человечеству суждено «возвратиться» к Назарету как «отчей обители» всего христианского мира («На пути из Назарета», 1912). Пережив «падение России и падение человека», в стихотворениях 1917-1923 гг. И.А. Бунин более глубоко проникает в христианский смысл истории.
В творчестве И.А. Бунина сохраняется целостная библейская парадигма «потерянного рая» в системе характерных для нее мотивов и образов. Чувственно переживаемая память о рае, «обрастая» религиозными, культурными и пейзажными символами, становится доминантой его поэзии.
Библейская антропология, которая присутствует в мире И.А. Бунина на уровне образов и мотивов и уровне универсальных моделей человека («героями» его поэзии являются Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Самсон, Рахиль и др.), позволила ему показать разные грани человека в его личностных и духовных проявлениях.
Для И.А. Бунина наиболее интересным является библейский образ Адама. Он актуален для И.А. Бунина в двух аспектах.
В антропологическом аспекте, сохраняя в основе библейский смысл, который представляет Адама как человека вообще, изгнанника из рая, прародителя, И.А. Бунин наделяет своего Адама индивидуально-авторской характеристикой – «живой страстью» («Сатана Богу», 1903-1906) . В поэзии «живая страсть» бунинского Адама преобразуется в творческую способность лирического героя вспоминать о рае. Так, преображаясь в райское мироощущение творческой личности, его чувственные переживания приобретают духовные характеристики. В лирике И.А. Бунина человек выступает в «роли» Адама, который сохранил творческую способность возвращать «потерянный рай».
Для поэта Адам актуален в русле христианской антропологии как целостный и гармоничный человек, который, с одной стороны, имеет богоподобный статус (по образу и подобию Творца), а с другой стороны – соприродный тварному миру («из персти земной»). Именно такие характеристики получает лирический герой в его творчестве.
В своих произведениях И.А. Бунин достаточно часто использовал образы Иисуса Христа, Божьей матери, а также мотивы Апокалипсиса. Духовность И.А.Бунина не ограничивается только ими. В своих произведениях он использует и образы Корана, литургические образы, апокрифы. Мистериальные черты приобретает пейзаж, особенно изображение звездного неба. Одним из наиболее ярких стихотворений, воплощающих таинственную образность и содержание, является «Сириус»:
Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?
Где молодость простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?
Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда! .
Образ Сириуса, «венца небесной красоты», двупланов. Это, с одной стороны, и самая яркая звезда Северного полушария, венец света северного ночного неба, а с другой стороны – это и указание на венец красоты инобытийной, сверхъестественной, горней, на Божественный идеал и эталон красоты. Образ, с нашей точки зрения, ассоциативно указывает на Иисуса Христа , умершего и воскресшего, преодолевшего вселенское безобразие – грех и его последствия – смерть. Именно о Боге и вечности последние, во многом аккумулирующие содержание произведения, две строки, содержащие образ могилы: «Забытой богом навсегда».
В двух первых строфах, начинающихся риторическими вопросами, обнаруживается потеря, вероятно, безвозвратная, звезды, молодости, малой родины, отечества, в конечном счете – жизни. В третьей строфе, предполагающей значительный по смыслу эллипс, создается образ «дальней могилы», то есть изображается смерть лирического героя. Однако в «Сириусе» смерть – свершившийся факт, причем, как становится очевидно при повторном прочтении, исходный момент возникновения лирического сюжета, и, значит, смысловой эллипс предполагается и перед первой строфой.
Могила приобретает конкретный признак. Она предстает перед нами заброшенной, находящейся вдали от родины. По своему характеру бунинский образ космический, мистериальный. В нем присутствуют все три мира мистерии – мир мертвых, «подземный» («могила»); мир дольний (могила дальняя – пространственная, «земная» характеристика); наконец, мир горний – пылающая «неугасимая звезда» и Бог. В связи с этим лирический сюжет данного стихотворения заключается в буквальном преодолении смерти, в восхождении из «ада» через мир земной в мир горний, подобное тому, которое совершил Иисус Христос, сразу после своей смерти спустившийся в ад, разрушивший его, воскресший и вознесшийся через сорок дней на небо.
Лейтмотивом стихотворения И.А.Бунина является восхождение лирического героя из «ада», в котором находились все люди, в том числе и ветхозаветные праведники, до пришествия в мир Христа и Его Воскресения, через преодоление смерти – воскресение в мир горний духом своим, а не телом.
Внимание И. Бунина привлекает состояние мира в момент Божьего откровения, переходное, самое ответственное мгновение, когда решается вопрос жизни и смерти. В интерпретации И.А. Бунина тема Апокалипсиса раскрывает безмерность и торжество власти над человеком высших сил, несравнимо превосходящих его возможности. Перед нами состояние мира, более не располагающее собой:
И будет час: луна в зенит
Войдет и станет надо мною,
Лес затопит белизною
И мертвый обнажит гранит,
И мир застынет – на весу… .
В системе апокалиптических мотивов поэт изображает кончину Святителя:
И скрылось солнце жаркое в лесах,
И звездная пороша забелела.
И понял он, достигнувший предела,
Исчисленный, он взвешен на весах.
Вот точно дуновенье в волосах,
Вот снова сердце пало и сомлело;
Как стынет лес, что миг хладеет тело,
И блещет снегом пропасть в небесах.
Трава в росе. Болото дымом млечным
Лежит в лесу. Он на коленях. С Вечным. .
Апокалипсис в художественной картине И. Бунина демонстрирует абсолютное превосходство мировой Силы, Бога над человеком.
В произведениях Бунина нашли отражение и самостоятельное художественное осмысление события земной жизни Спасителя и связанные с ними реалии, прежде всего Святая земля.
Среди реалий Святой земли, к которым Бунин неоднократно возвращался, особое место занимает Иерихон. «Иерихон (в еврейских источниках Йерихо) – известный город, лежавший в пределах колена Вениаминова. Обычное значение слова следующее: благоухающий, благовонный, но, по мнению некоторых толкователей, оно означает месяц или луну, которую могли боготворить основатели Иерихона. <…> Иерихона – города пальм и иерихонских роз, которыми он так славился, теперь почти не существует» .
Обращают на себя внимание характерные особенности культурных ассоциаций, связанных с Иерихоном и то, что это описание было известно самому писателю и оказало некоторое влияние на его художественные произведения.
Доминантой стиля его произведений, которая ориентирована на описание, является пейзаж, связанный со сложно организованным художественным временем произведения. Лирический пейзаж Бунина, воплощающий образ Святой земли, символичен. Он содержит прямые указания на совершившиеся здесь великие события и на передающую их сакральный смысл Библию. По словам поэта («Долина Иосафата»), «По жестким склонам каменные плиты / Стоят раскрытой Книгой Бытия» .
Стихотворение «Иерихон» (1908) изобилует подробностями пейзажа, подчас неожиданными при разработке необыкновенно ответственной и богатой традициями литературной темы. Произведение открывает следующая строка: «Скользят, текут огни зеленых мух» .
В следующей строфе поэт рисует нечто весьма далекое от связывающихся со Святой землей ожиданий Спасения и Жизни – Мертвое море: «Над Мертвым морем знойно и туманно» .
Пейзаж не только не радующий, а томительный, едва ли не гнетущий:
И смутный гул, дрожа, колдует слух.
То ропот жаб. Он длится неустанно,
Зовет, томит…
Но час полночный глух» .
В соответствии с существующими описаниями и личными впечатлениями И.А. Бунин рисует Иерихон не как «город пальм» и иерихонских роз. В его изображении доминируют картины запустения и одичания, где, казалось, окончательно потеряно всякое напоминание о том, что здесь происходили важнейшие события, спасительные для человека и поныне:
Внизу истома. Приторно и сладко
Мимозы пахнут. Сахарный тростник
Горит от мух… И дремлет Лихорадка,
Под жабий бред откинув бледный лик» .
Процитированные финальные строки стихотворения содержат олицетворение лихорадка , которое переводит произведение в иной – фольклорный, сказочный, мифопоэтический план.
В «Иерихоне» лихорадка как образ вводится в финальном эпизоде, ключевом для произведения. По сути дела, лихорадка в качестве олицетворения семантически включает в себя весь предшествующий мрачноватый пейзаж, его внешнюю, зримую и воспринимаемую сторону. Образ брошенного древнего города поражает уже не опустошением, а странной, неожиданной, возможно, нечистой и неуместной там – и вместе с тем не лишенной какого-то тайного обаяния – жизнью. Благодаря таким деталям пейзаж в стихотворении «Иерихон» оказывается преображенным, обладающим дополнительными смысловыми планами. Такое преображение, семантическая трансформация пейзажа подчеркивается порядком слов. Деталь, значимая для его интерпретации, обычно находится в конце фразы или предложения. В каждой из первых трех строф его усиливают переносы. Так, если цитированная первая строка содержит лишь слабый намек на свет («огни мух»), то в следующем предложении он, подчеркнутый переносом, становится гораздо более определенным: «знойно и туманно от света звезд».
Библейская аллюзия в третьей строке не оставляет сомнений в особом характере символики пейзажа. Вновь используется перенос с семантическими функциями. Новый семантический план, который появляется в стихотворении так ярко впервые, кроме переноса и позиции конца предложения, усиливается и за счет знака препинания – тире: «Песок вдали – как манна» .
В библейских источниках манна – «хлеб, посланный Богом израильтянам в пустыне, во время их 40-летнего странствия» , зримая забота Создателя о спасении и избавлении своих людей в трудную для них минуту. С учетом вышесказанного смысл завершающей первую строфу строки: «И смутный гул, дрожа, колдует слух» меняется.
Это уже не только деталь настораживающего, мрачноватого пейзажа. «Смутный гул» и его колдовство – скорее указание на иное, сверхприродное, очистительное, Божественное начало.
Однако И.А. Бунин не просто указывает на Бога через детали пейзажа. В поэтическом образе он передает основную мысль Священного Писания и реализует замысел Создателя о спасении человечества. Так, после Книги Исхода (1-я строфа), передающей зримый, пространственный путь народа через пустыню к избавлению от рабства и подлинному служению, поэт дает еще одну принципиально значимую аллюзию. Он создает образ последнего пророка Ветхого Завета и первого пророка Нового Завета Иоанна Крестителя – величайшего из рожденных женами людей, соединяющего оба Завета:
То ропот жаб. <…>
Внимает им, может быть, только Дух
Среди камней в пустыне Иоанна» .
Благодаря особенностям поэтического синтаксиса, И.А. Бунин создает весьма неоднозначный образ. Дух получает свою предельную конкретизацию в образе Богочеловека.
Поэт не только вводит новую аллюзию, но и семантически дополнительно нагружает или, в соответствии с мистической составляющей лирического сюжета и своеобразным духовным восхождением лирического героя, проясняет уже созданные им образы-детали пейзажа – звёзды, воспринимавшиеся в 1-й строфе как несмелый намек на потустороннее:
Там, между звезд, чернеет острый пик
Горы Поста. Чуть теплится лампадка» .
Ключевая для произведения аллюзия – Гора Поста, напоминающая о сорокадневном посте Спасителя и искушениях, которые Он преодолел, подчеркнута переносом. Однако, как и в ряде прозаических произведений («Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско»), она, по сути дела, спрятана и формирует семантику произведения таким образом, чтобы у внимательного читателя была возможность свободно приобщиться к образу Тайны и Вечности, а также к подлинному содержанию стихотворения.
В отношении следования Библии и промысловому Пути спасения человечества, что нашло отражение в тексте, И.А. Бунин делает и следующий, необходимый, шаг. От Служения Спасителя он поэтически переходит к Его Церкви, главой которой он был и остается. Это происходит через пейзаж, а точнее через его особую внутреннюю форму. Контраст между светом и тьмой («между звезд чернеет») находит свое разрешение в образе, имеющем литургический характер, – «Чуть теплится лампадка». Видимая «между звезд» Вершина Горы Поста, напоминает поэту горящую лампадку, знак длящейся молитвы и непрестанного духовного бодрствования. Вместе с тем горящая лампадка – один из важных и необходимых атрибутов храма (или дома как аналога храма), который является указанием на непрестанное служение Церкви Христовой, которую Бог основал своим земным Служением и, в частности, преодолением искушений Сатаны на Горе Поста (первый шаг собственно Служения).
В таком контексте лирического сюжета, имеющего ясно выраженный мистериальный план, по-иному осмысляется и цитированное заключительное четверостишие. Оно воспринимается не как образ торжества запустения, жизни «низкой», а как таинство Боговоплощения и Спасения, требующего любви и внимания к себе.
Именно пейзаж, по мнению И.А. Бунина, позволяет ассоциативно связать время Рахили (далекую древность, практически вечность) и художественное настоящее время. Имя Рахили – одно из тех, что соединяет в творчестве Бунина воедино тему любви и Святой земли, давая при этом неожиданное, глубоко личное и неповторимое, переживание подлинности Священной истории:
«Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне, выпуклом и белом…
Сладчайшее из слов земных! Рахиль! («Гробница Рахили») .
Небольшое, но семантически насыщенное произведение И.А. Бунина имеет и более глубокий план. Его основная тема – преодоление смерти и вечная жизнь. Об этом говорится уже в первой фразе: «В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы». Тема такого масштаба решается писателем уже не просто лирически, а с опорой на приемы поэтического в прозе.
И.А.Бунин не акцентировал свою религиозность. Он жил, вобрав систему религиозных ценностей, ощущая свое кровное родство с земным и Божественным, что и нашло полное и адекватное выражение в его творчестве.
Поэзия Бунина – уникальное явление культурной эпохи рубежа XIX-XX веков, во многом отразившее и, в соответствии с особенностями индивидуального авторского стиля, неповторимо преломившее ее характерные черты. Поэт воспринимает и осмысливает библейские образы и мотивы по-новому, с позиции человека, живущего в XX веке.
Портретные изображения в произведениях И.А. Бунина – это не только описание внешности, которое характеризует героя со всех сторон, не только отражение его внутреннего мира, но и результат работы над собой, своим внутренним миром. Поэтому активное использование иконописных образов и сюжетов в творчестве И.А. Бунина вполне логично (стихотворения: «Мать», «Новый храм», «Гробница Рахили», «Иерусалим», «Саваоф», «Михаил», «Бегство в Египет», «Канун Купалы» и т.д.). Образ Богородицы в этом списке занимает особое место.
И.А. Бунин прямо или опосредованно, используя ассоциативный ряд, вводит образ покровительницы, Матери всего мира, которая подарила человечеству Спасителя и спасение, мудрость и надежду. Поэт верит в Божественное сострадание Человеку на его сложном жизненном пути.
Образы, которые создает поэт, не заявлены как библейские ни в названии, ни в сюжете произведения. Однако автор воплощает их так, что связь художественного содержания со Священным Писанием становится очевидной. Так, в стихотворении «Мать» (1893) перед читателем появляется ночная картина бурана, затерянного в степи хуторка, мертвого дома, образ матери, укачивающей на руках ребенка:
И дни и ночи до утра
В степи бураны бушевали,
И вешки снегом заметали,
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом –
И стекла в рамах дребезжали,
И снег сухой в старинной зале
Кружился в сумраке ночном.
Но был огонь – не угасая,
Светил в пристройке по ночам,
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая.
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила… .
Бытовая зарисовка, которая обрастает символическими деталями, в контексте стихотворения превращается в обобщенную философскую картину мироздания. В ней материнское сострадание своему ребенку передано как заступничество Богоматери за весь человеческий род, попавший в бесконечный жизненный буран:
Когда ж буран в порыве диком
Внезапным шквалом налетал, –
Казалось ей, что дом дрожал,
В степи на помощь призывал. .
Описание бурана, мертвого дома, плачущей матери с ребенком на руках, стремящейся сохранить огонь свечи и старинную книгу – все эти мотивы соединяются в драматический сюжет, который максимально обобщен, передает картину мира и определяет место человека в этом мире.
Тема мировой катастрофы, мирового страха перед угрозой гибели, перед всеобщим бураном и материнское заступничество Богородицы за всех живущих представлена в таких стихотворениях И.А. Бунина, как «Мать» (1893), «Канун Купалы» (1903), «Бегство в Египет» (1915) и др. Используя евангельские сюжеты и иконописное изображение, автор тем самым не столько отражает эпохальные апокалиптические настроения, сколько подчеркивает веру в спасение и божественное покровительство. Поэт подчеркивает, что Богородица, оберегая и спасая Младенца, спасает мир.
Следует отметить особую роль анафоры и многоточий, которые вместе с многочисленными глаголами несовершенного вида («бушевали», «заметали», «заносили», «врывались» и т.д.) создают неограниченное временное пространство в произведении: как бесконечна смена дня и ночи («и дни и ночи»), так бесконечен жизненный буран, так верна и надежна в нем «мерцающая свеча», которая дает веру и надежду на защиту и покровительство в этом сумрачном, сером мире. Показательным является тот факт, что в тексте стихотворения употреблен глагол «заслонила», которым И.А. Бунин подчеркивает несомненное, абсолютное заступничество Божьей Матери. Отсюда и интонационное противопоставление: нарочитая анафора первой строфы (подчеркивающая и будто повторяющая завывание ветра) вдруг прерывается противительным союзом «но» и библейским оборотом «но был огонь – не угасая…» (Сравним с текстом Евангелия: И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5)) .
Как нам представляется, образы, дома, книги и свечи имеют особое значение в контексте текста стихотворения. Безусловно, что свеча – это символ веры, «старинная книга» имеет прозрачную аллюзию на Книгу Книг, а образ дома ассоциируется с пониманием души человека. Спасти же этот дом может свеча – вера в Божественное сострадание.
Примечательно, что особую эмоциональную нагрузку несет строфическое оформление текста. Стихотворение состоит из трех строф. В первых двух строфах по 8 строк, в последней – 13. Пятистишие последней строфы, в котором конкретное вырастает до размера вселенского, приобретает философское значение и перерастает в кульминационный момент всего стихотворения.
Когда ж буран в порыве диком
Внезапным шквалом нарастал, –
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым, дальним криком
В степи на помощь призывал .
Драматическая динамика стихотворения, которая передана через описание пейзажа, направлена на создание поэтизированного иконописного образа. Само изображение дается в последних 4 строках стихотворения, в которых образ Богородицы с младенцем на руках становится очевидным. Поэтому название стихотворения приобретает обобщенно-символическое значение – мать как заступница всех людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и нуждающихся в сострадании и помощи. Изображение, подготовленное драматическим сюжетом стихотворения, дается и как итог произведения, и как живописное подтверждение сказанному, и как открытие, как озарение, как необходимый для спасения маяк. Динамика стихотворения сменяется небольшим описанием портрета матери с младенцем на руках. Изображение передано через обращение взглядов матери и младенца к читателю. И этого становится достаточным для того, чтобы портрет превратился в иконописный лик:
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами… .
Таким образом, эпический сюжет в стихотворении в сочетании с зарисовкой пейзажа, рядом символических деталей и образов, особых интонационно-синтаксических конструкций и оборотов оказывается средством создания не только для создания портрета героини, но и для воссоздания и «оживления» иконописного образа, переданного в движении.
В стихотворении «Мать» И.А.Бунин раскрывает не только тему Апокалипсиса и заступничества Богородицы за человеческий род. Путем преобразования драматичного лирического сюжета в живописное портретное изображение автор воссоздает иконописный сюжет, и тем самым конкретный лирический образ женщины превращается в образ Богоматери – заступницы заблудившихся и потерявшихся людей. Так конкретно-бытовая сюжетная коллизия преобразуется в портретную зарисовку, а затем с помощью волшебного художественного слова, вырастает до максимальной степени обобщения и символического толкования.
Признаки жанра молитвы появляются в ранних, юношеских стихотворениях И.А. Бунина «Под орган душа тоскует…» (1889), «В костеле» (1889), «Троица» (1893) и др. Молитвенное обращение к Христу в первую очередь соотносится с эстетическим переживанием величественного, таинственного пространства храма. Изобразительный ряд данных молитв строится на символических обобщениях о личностном бытии в мире, о присутствии Сущего в земном и тленном. Запечатленная в распятии «крестная мука» Христа оказывается сопричастной лирическому переживанию социальной малости, бедности человеческой жизни:
О благий и скорбный! Буди
Милостив к земле!
Скудны, нищи, жалки люди
И в добре, и в зле! .
Здесь мы видим, что непосредственные молитвенные обращения соединяются с глубокой рефлексией о молитве, в которой выразился вопрошающий, ищущий дух лирического «я». Через религиозное переживание герой стремится освятить словом не выразимые обычным человеческим языком сердечные движения («Есть святые в сердце звуки, – // Дай для них язык!» ), обрести в конечном земном мире непреходящую радость о победившем смерть Боге и через это ощутить природный космос как нерукотворный храм: «Гимн природы животворный // Льется к небесам // В ней твой храм нерукотворный, // Твой великий храм!» ..
В стихотворении «Троица», где молитвенное чувство облечено в пейзажные образы, картины крестьянских трудов и праздников, мистика церковного быта и бытия открывает сокровенную глубину и живительные корни народной души, которая становится здесь субъектом лирического переживания:
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье… .
Такое по-юношески восторженное приобщение к молитвенному опыту используется и в более поздних стихотворениях И.А. Бунина. Оно ассоциируется с образом детства – как времени труднодостижимой в последующие годы полноты общения с Богом.
В стихотворении «Свежа в апреле ранняя заря…» (1907) в лирическом обращении к Создателю изображена символическая евангельская картина движения женских и младенческих душ к радостной встрече с церковным таинством:
Прими, Господь, счастливых матерей,
Отверзи храм с блистающим престолом… .
В автобиографичном стихотворении «Михаил» (1919) перед нами предстает примечательный образец моления, выражающегося в детском ощущении бытия Божьего храма, протекания церковной службы и проникновении детского взгляда в изображение грозного архангела, который олицетворяет «дух гнева, возмездия, кары». Здесь система образов основана на ассоциативном единстве предметного и мистического планов, непосредственной прямоты детских восприятий и глубины последующей рефлексии лирического «я» о тайне величия и суровости ангельского мира:
Ребенок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч…
Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил! .
У И.А. Бунина молитвенная направленность лирического переживания раскрывается и через обращение к природному бытию. В стихотворении «В Гефсиманском саду» (1894) молитва, обращенная к «Господу Скорбящего», ведется от лица природы. В многоголосом молитвенном строе терна – будущего «венца мученья»; «кипариса», которому суждено стать материалом для креста; ветра, жаждущего облегчить «лаской аромата» страдания Спасителя и «возвестить» Его учение «от востока до заката», - явлено таинственное единство природного мироздания. В стиле этой поэтической молитвы слились отзвуки древнего предания и живого, непосредственного воззвания ко Христу, образ которого предстает сквозь призму психологических деталей. Элементы описания и опосредованного пейзажными образами лирического монолога оказываются в глубоком взаимопроникновении:
Но снова он в тоске склонялся,
Но снова он скорбел душой –
И ветер ласковой струей
Его чела в тиши касался… .
Через уединенный диалог с природной бесконечностью бунинский герой восходит к личностному молитвенному общению с Творцом – как, например, в стихотворении «За все тебя, Господь, благодарю…» (1901), где образный фон природной и душевной жизни описывает надмирную красоту и таинственность этого молитвенного диалога-хваления, соединенного с лирической исповедью:
И счастлив я печальною судьбой
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю – с Тобой. .
Открытие бездонности Вселенной в процессе молитвенного обращения к Богу происходит и в ряде иных стихотворений, разными путями приводя лирическое «я» к духовному обновлению. В стихотворении «О радость красок!..» (1917) постижение через молитву ангельского присутствия в человеческом мироздании позволяет превозмочь душевную смуту, «вернув к потерянному раю… томленья и мечты». В поздней лирической миниатюре «И вновь морская гладь бледна…» изображено изумленно-восторженное молитвенное благодарение Творцу, осознаваемое как итог всего прожитого – «за все, что в мире этом // Ты дал мне видеть и любить…» . Экспрессия сакрально-богослужебной лексики в стихотворении «Звезда дрожит среди вселенной…» (1917) (звезда, подобная «переполненному влагой драгоценному» сосуду) подчеркивает космизм поэтического переживания. Собственно молитва, пронизанная ощущением таинственной предопределенности индивидуального человеческого бытия, разворачивается здесь в обращенном к Богу вопросе: «Зачем, о Господи, над миром // Ты бытие мое вознес?».
В стихотворении «Канун Купалы» (1903) мы видим причастность индивидуального молитвенного опыта древней народно-религиозной традиции. Здесь рисуется мистический образ мира, предстающий в ипостаси храмового пространства природа («золотой иконостас заката»), в центре которой – образ собирающей «божьи травы» Богоматери. Кульминационным моментом становится здесь Ее сокровенное общение с Сыном, смысл которого заключается в молении о торжестве в человеческом мире Любви над силами Смерти. Так расширяются образные горизонты жанра поэтической молитвы, сочетающей экзистенцию лирического «я» с древними архетипическими пластами народного мистического представления о горнем мире.
Чувство беспредельности, которое доминирует в поэтической молитве И.А. Бунина, способствовало выходу религиозного чувства в надкультурные, надконфессиональные сферы. В рассматриваемом жанре поэт не раз обращается к восточным мотивам, лирически преломляя образы и сюжеты Корана. Так, стихотворения «Ночь Аль-Кадра» (1903) и «Священный прах» (1903-1906) строятся на осмыслении мусульманского предания о Гаврииле – «святом пилигриме», Божьем посланце людям. Совершаемое Гавриилом одухотворение «праха земного» становится для поэта образом непостижимого соприкосновения поврежденного земного мира с Божественной милостью. Торжественные одические образы Священных текстов («Великий Трон», «Алмазная Река»), используемые в них иносказания органично входят в образно-эмоциональную сферу бунинской поэтической молитвы. В стихотворении «Тонет солнце…» (1905) с опорой на мотивы Корана, несущие изображение таинственного «текста» мира небесных светил, воспеты детски-безыскусная непосредственность и поэзия воззвания к Вечному, льющегося из уст простых «пастухов пустыни». В образном параллелизме выразилась диалектика решительной энергии молитвы и сокрушенного духа как непременного условия ее полноты:
В прахе разольемся пред Тобою,
Как волна на берегу морском.
Райский топос в лирике В. Ходасевича
Понятие рая может быть обозначено как одно из важнейших в поэзии Ходасевича. Однако даже при простом перечислении текстов, где хотя бы упомянуто это слово или где оно организует композиционную структуру, обнаруживается не только несоответствие с традиционным представлением о рае, но и отчетливая дифференциация образа внутри лирического космоса Ходасевича.
В стихотворении «Рай» из сборника «Счастливый домик» образ рая возникает из описания игрушечного мира. Никогда не меняющийся, застывший в своем однообразии, этот мир оказывается причастным раю. Не случайно в другом стихотворении Ходасевич даст удивительное определение - «напряженный» рай. По мнению С.Г. Бочарова, «“напряженным раем” является вся сознательно стилизованная гармония “Счастливого домика” в целом» . В других сборниках мы не встретим искусственного рая, но отблеск этой «напряженности», словно бы изначально присутствующей механистичности, останется. Это символизирует и внутреннюю борьбу лирического героя с обывательским сознанием, и, возможно, подспудное представление Ходасевича об истинном рае, куда устремляется его Психея. Противопоставление это порождает напряженное сосуществование рая для смиренных и рая для тех, кто свободно творит свое бытие.
Такой рай (или мир, наделенный его чертами, и вместе с тем автономный) описан в «Элегии» 1921 г. Как и в «Счастливом домике», райское пространство которого есть отблеск вечности, в данном стихотворении тысячелетия становятся метафорическим обозначением рая. Но в «Элегии» это уже не игрушечный мир, время которого останавливается, когда останавливается заведенная кукла, это мир, принадлежащий душе поэта, готовой покинуть человеческое тело ради древнего жилья духов.
Является ли пространство, обретаемое душой, пространством рая? И как в других текстах Ходасевича обосновывается концепция райского топоса?
Один из любимых приемов поэта, когда первоначальная, реальная картина вызывает к жизни другую, из разряда инобытия, использован в стихотворении «Гляжу на грубые ремесла». Рядом с описанием простой жизни рыбаков, разворачивающих парус, возникает райское видение, поражающее монументальностью:
…встает в дали далекой
Розовоперое крыло.
Ты скажешь: ангел там высокий
Ступил на воды тяжело.
Сквозь «трехугольный парус» поэт видит крылья ангелов и, отодвигая бытовую картинку на задний план, подчеркивает ее сакральный смысл: «Знаю твердо: мы в раю».
Чтобы проникнуть в высшее пространство, необходимо проколоть телесность существующего. Сверхбытие можно постичь только через призму бытия низшего, но взгляду, умеющему удержать в сознании эту двойственность, открывается новое пространство. Такой взгляд должен обладать особой остротой, чтобы рассечь знакомый мир и сквозь него увидеть поэтический рай. Так возникает образ глаз, которые нужно «выплакать», чтобы они стали «большими» («И вижу большими глазами - Глазами, быть может, змеи» ), чтобы они пронзили бытие.
В стихотворении «Ласточки» как аналог творческому порыву поэта, его воспаленным земным очам дается образ птичьих крыльев - остроугольных, рвущихся прочь из дневного сияния в ночную бездну. Стремление ласточек «выпорхнуть… за синеву» сродни порыву Психеи, оставляющей тело: «Летит широкими крылами В огнекрылатые рои».
Крылья, пронзающие синеву неба, отделяющие душу от тела, поэта от обывателя, человека от ангела, становятся у Ходасевича основным признаком райского и поэтического мира. Райский топос прежде всего отмечен присутствием ангелов - «розовоперых», «златокрылых», «гигантских», «измученных». Пернатые ангелы Ходасевича, проводники поэта в мир, видимый сквозь «непрочную грубость» реальности, возможно, являются потомками пушкинского шестикрылого серафима, открывающего лирическому герою «на перепутье» поэтическое пространство, которое выводит его из пустыни. Ангелы могут возникнуть в тексте из сравнения («Музыка»); могут войти в бытовой мир из высшего, где прежде были наедине с поэтом, а потом взлететь, превратившись в голубей («Баллада» 1925 г.); могут сопутствовать поэту в его мучительных странствиях по «вертепам и трущобам» («Ночь») или отдать свои крылья автомобилю, мчащемуся в ночном сумраке («Автомобиль»)… Мир, рождающий ангелов у Ходасевича, - это не рай для смиренных людей, а поэтическое бытие, трагическое и ранящее сердце, ведь лира поэта - тяжелая. И когда герой Ходасевича оказывается перед выбором правильного существования или отказа от дара, он вступает в противоборство с Богом. В «Балладе» 1925 г. двоемирие задано оппозицией между двумя героями - поэтом и безруким. Неравенство подчеркнуто материально: человек не сможет владеть даром ангелов - тяжелой лирой, одной рукой ее не удержать. Вместе с тем самодовольство обывательского сознания нарушено, так как герой «Баллады» отмечен трагическим жребием. Опустошенность рукава безрукого отчасти компенсируется беременностью его жены, и он наделяется некой духовной целостностью. Ущербность и в то же время одухотворенность безрукого не соответствуют его обывательской позиции.
Поэт в «Балладе» не может совместить трагичность облика безрукого и его не наполненного высоким смыслом существования. Отчаяние приводит к бунту: вместо «тяжелой лиры» в руках героя оказывается бич . Таков преднамеренный выбор поэта, связанный у Ходасевича с мотивом острия: в начале стихотворения это взгляд, для которого мир прозрачен, как стекло. Дар увидеть мир, но невозможность его осмыслить превращают взгляд в бич.
Бич в «Балладе» 1925 г. наделяется чертами лезвия, пронзающего лирического героя из «Баллады» 1925 г. и превращающего его в поэта. Однако в «Европейской ночи» данный образ обозначает жест возвращения тяжелой лиры ангелам: в первой «Балладе» лезвие пронзало героя, во второй - сам герой бьет ангелов, что подчеркивает тяжесть дара. Так лирическое «я» и безрукий меняются местами, и поэт, отказавшийся от «невероятного подарка» Бога, находится внизу, в аду, а обыватель с женой - в раю. Происходит совмещение двух точек зрения: с одной стороны, страдающе-высокомерный взгляд поэта на безрукого, идущего в синема; с другой - взгляд снизу вверх, из ада - в рай, воплощающий смирение. Н.А. Богомолов отмечал: «Безрукому предстоит превращение в одного из тех ангелов, которые… окружают поэта и подают ему лиру. Ведь поэт просит… перышка на спаленную грудь - ангельского перышка» .
Поэтический образ рая и ада, нарисованный поэтом, не может быть понят смирным человеком, уход которого сопоставлен с другими строками «Баллады»:
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Так с венетийских площадей
Пугливо голуби неслись…
Поэт сам вызывает свою полную оставленность в мире: ремянным бичом прогоняет ангелов, странными словами отталкивает безрукого.
Летящие ангелы напоминают голубей, и это сходство позволяет лирическому герою переместиться в Венецию и погрузиться в прошлое. Каждое из пространств в «Балладе» построено на основе вертикали. Встреча лирического героя и безрукого дана с точки зрения «высокой» позиции поэта. Ад и рай образуют вертикаль, где «прохладнейшие высоты» принадлежат безрукому и его жене, а низ - лирическому «я». Финальная строфа открывает отвергнутого безруким поэта, что трагически возвышает смирного человека и снижает героя. Пространство Венеции тоже вертикальное: испуганные голуби несутся вверх, «от ног возлюбленной».
Пространственный провал возникает, когда в выделенную реальность происходящего перед синема вторгается ангельское начало, наделяемое материальностью:
Ремянный бич я достаю…
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь…
Есть улица, где поэт видит безрукого с женой, но есть и некое духовное межпространство, где происходит диалог человека с Богом (как в «Пророке» Пушкина). Сравнение ангелов с голубями выводит новый уровень реальности, тоже вертикально организованный. Сквозь одно пространство проглядывает другое: уровень, где поэту «лиру ангел подает» и где поэт отказывается от дара, рожден миром улицы, по которой идет безрукий (и наоборот: реальность парижской улицы видится поэту прозрачной благодаря дару ангелов); мир, рождающий взлетающих ангелов, возникает через образ голубей (и Венеция вторгается в текст «Баллады» лишь в качестве сравнения для описания ангельских крыл). Венеция обнажает параллель между судьбой поэта и безрукого: смирный человек идет в кино с беременной женой, а лирический герой гуляет по венетийским площадям с возлюбленной, от ног которой взлетают голуби, напоминающие ангелов. Нарисованная поэтом в диалоге с безруким картина превращения смиренных людей в ангелов есть воплощение давнего, итальянского эпизода, когда пугливые птицы уносились ввысь. Легкость мира безрукого, подчеркнутая Ходасевичем (безрукий, то есть более «легкий», чем другие; «будете витать… крылами белыми сиять»; «сбросьте перышко одно: Пускай снежинкой упадет…»), противоположна «тяжести» поэта и его тяжелой лире (невозможность взлететь, подобно голубям, и, следовательно, невозможность стать ангелом - попасть в рай рядом с «легким» безруким). Текст разрывает воспоминание, подтверждающее право поэта обладать тяжелой лирой (голуби, похожие на ангелов), но в финале утвержден отказ лирического героя от дара. Так в сборнике «Европейская ночь» Ходасевич, словно предчувствуя свое будущее творческое молчание, отвергает не только рай, ожидающий смиренных, но и рай поэтический, поскольку невозможность установления истинной гармонии в мире не позволяет поэту погрузиться в сверхбытие и вынуждает ощутить рай как чуждое ему пространство.
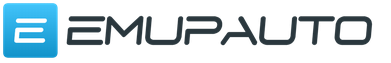 Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем
Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем